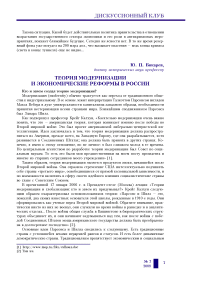Теория модернизации и экономические реформы в России
Автор: Бокарев Юрий Павлович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Дискуссионный клуб
Статья в выпуске: 1 (7), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются теория модернизации и экономические реформы в СССР
Модернизация, экономические реформы, ссср, "шоковая терапия"
Короткий адрес: https://sciup.org/14723512
IDR: 14723512
Текст научной статьи Теория модернизации и экономические реформы в России
-
[2] Там же.
изменениям, а демократическое устройство способствует прогрессу. Поэтому традиционные страны отстают в своем развитии, они остались в Средних веках, в прошлом. А демократические, развитые, страны определяют лицо современности. Миссия США и других развитых стран заключается в том, чтобы привести отсталые традиционные страны в современность [3].
По словам Крейга Калхуна, «это было основано на той аксиоме, что правительства и народы так называемых традиционных стран должны будут принять с энтузиазмом теоретические предсказания и политические предписания, которые дают им ученые из Гарварда, Оксфорда или Беркли. Поскольку считалось, что все они должны хотеть стать современными, все должны достичь уровня развития современного мира, это вытекало из самой постановки вопроса — из дихотомии между традиционным и современным миром» [4].
Теория Парсонса и Шилза заинтересовала политические и деловые круги США. На ее разработку были выделены огромные деньги из государственных и частных фондов. Наиболее щедрые гранты предоставил фонд Форда, поскольку стоявшие за ним деловые круги понимали, что страны, принявшие теорию модернизации, примут и американские инвестиции, сулящие гигантские прибыли. Для политиков же было важно, что указанная теория создавала большое количество рабочих мест для экспертов, отправлявшихся в качестве советников правительств в страны «третьего мира».
Благодаря прекрасному финансированию развиваемое Талкоттом Парсонсом и Эдвардом Шилзом направление стало быстро обрастать сторонниками как в США, так и в Европе. Широкое распространение оно получило в конце 1950-х — 1960-е годы, когда были опубликованы монографические труды Даниэля Лернера, Нейла Смелзе-ра, Эверетт Хаген, Марион Леви, Дэвида Аптера и др.) [5], заложившие основу классической теории модернизации. Ее создатели считали, что социальные и экономические изменения являются однолинейными и потому менее развитые страны должны пройти тот же путь, по которому идут более развитые государства. Они утверждали, что изменения необратимы и неизбежно ведут процесс развития к определенному финалу — модернизации. С их точки зрения, изменения имеют постепенный, накопительный и мирный характер. Разработчики теории также полагали, что стадии, которые проходят процессы изменения, обязательно последовательны —ни одна из них не может быть пропущена. Наконец, они превозносили прогресс, веря, что модернизация принесет всеобщее улучшение социальной жизни и условий человеческого существования.
Первый удар по теории модернизации нанесли ее же создатели. В 1964 г. Шмуэль Айзенштадт в Израиле восстал против вестернизации современности. Если сравнить западноевропейский и американский варианты капитализма, утверждал он, то можно найти довольно серьезные отличия. Поэтому европейская современность не совсем такая же, как американская. И точно так же, как Запад создал для себя западную современность, исламский мир создает для себя исламскую современность [6]. Так возникло представление о «множественных современностях», «множественных мо-дернах», что, конечно, ставило под вопрос лидерство США в современном мире.
-
[3] Parsons Т. The Social System. Glencoe, 1964 (reprint from eel. 1951).
-
[4] http://www.inop.ru/files/calhoun.doc
-
[5] Lerner D. The Passing of Traditional Society. Glencoe, 1958; Smelser N. J. Social Change in the Industrial Revolution. L., 1959; Hagen E. On the Theory of Social Change. Homewood, 1962; Levy M. J. Modernization and the Structure of Societies. Princeton, 1966; Apter D. Some Conceptual Approaches to the Study of Modernization. Englewood Cliffs, 1968.
-
[6] Eisenstadt S. N. Breakdowns of modernization / / Goode W. J. (ed.). The Dynamics of Modern Society. N. Y, 1964. P. 434-448.
Следующий удар нанесли латиноамериканиеты: экономист из латиноамериканского центра ООН Рауль Пребиш, леворадикальный экономист Андре Гундер Франк, социолог и будущий президент Бразилии Фернандо Энрике Кардозо, а также Т. Дуе Сантус, Р. Ставенхаген, О. Фалье Борда, Э. Торрес Ривас, М. Каплан и др. В своих выступлениях и статьях они утверждали, что теория модернизации неспособна вывести страны «третьего мира» из отсталости. В частности, страны Латинской Америки, несмотря на то что они наполнили свои институты американскими советниками и получили колоссальные инвестиции из США, оказались в ловушке отсталости. Главная причина отсталости —зависимость латиноамериканской экономики от экономики США. Зависимые экономически и интеллектуально страны в принципе не могут стать передовыми державами [7].
Кроме того, решительной критике теорию модернизации подвергли исследователи и почитатели Макса Вебера. По их мнению, Талкотт Парсонс сильно исказил учение великого немецкого социолога и экономиста. Вебер никогда не опускался до примитивной дихотомии традиционализм —современность. Он понимал многомерность и многоуровневость исторического процесса. Поэтому его нельзя считать предшественником и тем более основоположником теории модернизации.
Однако наиболее сокрушительные удары по теории модернизации были нанесены несколько позднее, причем самими американскими социологами.
Очевидно, что и без теории модернизации Запад мог претендовать на лидерство, по крайней мере, в большей части стран «третьего мира», нуждавшихся в экономической помощи, которым он без труда мог навязывать свою «современность». Но существовали еще Советский Союз, страны Восточной Европы, Китай, Вьетнам, Куба. У них была своя теория современности, свое понимание индустриального общества, отрицавшее универсальность западной модели.
К тому же шла «холодная война», надо было объяснять, что капитализм —это хорошо, а социализм —плохо. Теория модернизации ничего для этого не давала. Она была довольно убедительной, когда объясняла преимущества индустриального общества. Но индустриальным был и Советский Союз, которого сталинские преобразования превратили во вторую мировую сверхдержаву. Этим объясняется тот факт, что некоторые из западных идеологов модернизации, такие как Талкотт Парсонс, легко воспринимались советскими и российскими интеллектуалами. Теория модернизации, по сути дела, только повторяла марксистский тезис о прогрессивности индустриальной экономики.
Нужна была дополнительная теория, способная объяснить, «кто хорошие парни в этом мире, а кто —негодяи». Ею стала теория «открытого общества» Карла Поппера, осуждающая социалистический мир за недемократичность и автаркию.
В 1970-е годы наметилось некоторое сближение между «первым» и «вторым» мирами, получившее название «разрядка». Это послужило почвой для создания теории конвергенции, согласно которой внутри «первого» и «второго» миров происходят изменения, влекущие за собой постепенное стирание различий между их социально-экономическим и политическим устройствами. Ее создателями являлись Кларк Керр, Самуэль Хантингтон и Уолт Роетоу. Сторонником теории конвергенции в СССР был А. Д. Сахаров [8].
В сложившихся условиях теория модернизации была подвергнута сильнейшей критике, которая перешла в ее полное отрицание. Были признаны неприемлемыми теоретические обоснования идеи модернизации. Прежде всего подчеркивались не-
-
[7] http:/ /polbu.ru/sztompka_sociology
-
[8] Сахаров А. Д. Тревога и надежда. М., 1990. С. 42—47.
линейность и многомерность исторического развития, которое осуществляется разными путями в зависимости от стартовых позиций тех или иных обществ и проблем, с которыми они сталкиваются [9].
Отмечалось, что попытки модернизировать общество чаще всего не приводят к обещанным результатам. Нищету в отсталых странах преодолеть не удалось, более того, ее масштабы даже увеличились. Не только не исчезли, но и широко распространились авторитарные и диктаторские режимы, обычным явлением стали войны и народные волнения, возникли и новые формы религиозного фундаментализма, национализма, фракционализма и регионализма, продолжилось идеологическое противоборство.
Наблюдались также многочисленные негативные побочные эффекты модернизации. Уничтожение традиционных институтов и жизненных укладов повлекло за собой социальную дезорганизацию, хаос и аномию, рост девиантного поведения и преступности. Дисгармония в экономике и нееинхронноеть изменений в различных подсистемах общества привели к неэффективному расходованию ресурсов. Как писал Шмуэль Айзенштадт, «все это не стимулировало (особенно в политической области) развитие институциональных систем, способных адаптироваться к продолжающимся изменениям, новым проблемам и требованиям» [10].
Критики указывали на ошибочность прямого противопоставления традиции и современности и приводили примеры преимуществ традиционализма в некоторых областях. Самуэль Хантингтон подчеркивал: «Не только современные общества включают в себя многие традиционные элементы, но и традиционные общества, в свою очередь, нередко обладают такими чертами, которые обычно считаются современными. Кроме того, модернизация способна усиливать традицию» [11]. Также утверждалось, что «традиционные символы и формы лидерства могут оказаться жизненно важной частью ценностной системы, на которой основывается модернизация» [12].
Оппоненты теории модернизации отмечали большую роль внешнего, глобального контекста и внутренних причин. «Любое теоретическое обоснование, которое не учитывает такие значимые переменные, как влияние войн, завоеваний, колониального господства, международных, политических или военных отношений, торговли и межнационального потока капиталов, не может рассчитывать на объяснение происхождения этих обществ и природы их борьбы за политическую и экономическую независимость» [13].
Была поставлена под сомнение строгая последовательность стадий модернизации: «Те, что пришли позднее, могут (и это вполне доказуемо) быстро модернизироваться благодаря революционным средствам, а также опыту и технологиям, которые они заимствуют у своих предшественников. Таким образом, весь процесс может быть сокращен. Предположение о строгой последовательности фаз (предварительное состояние, начальная фаза, переход к зрелости и т. и.), которые должны пройти все общества, похоже, ошибочно» [14].
Неверными оказались и представления об однотипности институтов традиционных и развитых обществ. Как писал Эмиль Дюркгейм, «становится все более очевидным
-
[9] ЕEisenstadtSS. N.КModernization:FProtest andСChange.ЕEnglewoodСCliffs,1 1966.FP. 2.
-
[10] Eisenstadt S. N. Breakdowns of modernization. P. 435.
-
[11] Huntington S. P. The change to change: modernization, development and polities / / Black С. E. (ed.) Comparative Modernization. N. Y., 1976. P. 36.
-
[12] Gusfield J. R. Tradition and modernity: misplaced polarities in the study of social change / / American Journal of Sociology. 72 (January 1966). P. 352.
-
[13] Tipps D. C. Modernization theory and the comparative study of Societies: a critical perspective Black С. E. (ed.) Comparative Modernization. P. 74.
-
[14] Huntington S. P. The change to change: modernization, development and polities. P. 38.
тот факт, что разнообразие институтов, существующих в современных обществах, причем не только модернизирующихся или переживающих переходный период, но и развитых, и даже высокоразвитых, весьма велико». Доминирующей чертой современных обществ является не сходство, а различие, так что модернизация не может рассматриваться как единая и окончательная стадия эволюции всех обществ [15].
После того как была развенчана главная аксиома теории модернизации о линейности общественного развития, его всеобщем, постепенном, стадийном и мирном характере, она перестала пользоваться успехом. Щедрые гранты и международные премии перестали сыпаться на головы сторонников теории. От них отвернулись деловые круги и правительственные институты. Солидные научные журналы больше не предоставляли своих страниц для идеологов обанкротившейся школы.
После критики и до середины 1980-х годов социологами развивалась идея «модернизации в обход модернити» (Айзенштадт, Турен, Абдель-Малек). Согласно Айзенштадту, в новой парадигме модернизации, во-первых, признавалась значимость сложившихся социокультурных типов как основ устойчивости и самостоятельности общества, во-вторых, делался акцент на устойчивости ценностно-смысловых факторов в регуляции как политической, так и хозяйственной жизни, в-третьих, признавалась большая вариативность институциональных, символических, идеологических интерпретаций, которые различные общества и цивилизации дают понятию модернизации.
Во второй половине 1980-х под влиянием кризисных явлений в социалистическом лагере уже теория конвергенции оказалась под огнем критики, поскольку катастрофический исход социализма ею не предсказывался. Если не вдаваться в существо внутренних причин, которые привели СССР к катастрофе, а ограничиться лишь поверхностными выводами, то может показаться, что оправдалась аксиома теории модернизации о невозможности индустриализации вне рамок капиталистических институтов. В связи с этим произошло оживление теории модернизации.
В то же время исламское противодействие, принявшее экстремистские формы, подтолкнуло социологов к поиску более убедительных доказательств необходимости для стран «третьего мира» двигаться по западном}? пути. Получило распространение направление, связанное с поиском восточных аналогов западной протестантской этики и эндогенных предпосылок собственного пути «движения в современность» (Айзенштадт, Белла, Лернер, Линг, Сингер и др.). При этом предложенная парадигма модернизации оставалась в рамках западного понимания рынка как исходного момента развития незападных обществ.
Вскоре появилась еще одна разновидность теории модернизации, развиваемая неолиберальными экономистами. Главное отличие неолиберализма от либерализма состоит в том, что неолибералы строго разграничивают экономику и «неэкономику». Все, что относится к политике, религии, идейным течениям, вне сферы их изучения. Для них существует только экономика —и больше ничего. Причем экономика, основанная на эгоистическом поведении индивидов, частной собственности, конкуренции всех со всеми, рыночных законах, свободном спросе и предложении, равновесных ценах, не зависящих от чьей-то воли. То, что исповедуемая ими экономическая модель в реальной жизни не существует, неолибералов не смущает. Скорее напротив, придает им статус «хранителей истины». Для неолибералов нет «правильной» экономики. Любая страна нуждается в их проекте либеральных реформ, «шоковой терапии», сводящейся к тому, чтобы все приватизировать, перестать регулировать цены, курс национальной валюты и освободить конкуренцию от любых сдерживающих механизмов. Вот тогда экономика процветет.
-
[15] ЕDurkheimЕЕ. Selected Writings// Ed.ЛA. Giddens.СCambridge,1 1972.РP. 422
С точки зрения классиков теории модернизации, неолиберальная шоковая терапия не имеет никакого смысла. Старые теоретики сказали бы, что если у вас еще не возникли современная ментальность, современные законодательные институты, современная культура, современные политические партии, —ничего у вас не получится. Вы не можете создавать одну часть современности без создания других. Иначе все окончится катастрофой. Классики видели все социальные процессы взаимосвязанными. Так, например, Нейл Смелзер описывал модернизацию как комплексное, многомерное изменение, охватывающее шесть областей. В экономике отмечаются (1) появление новых технологий; (2) движение от сельского хозяйства как средства к существованию к коммерческому сельскому хозяйству; (3) замена использования мускульной силы человека и животных «неодушевленной» энергией и механизмами; (4) распространение городских типов поселений и пространственная концентрация рабочей силы. В политической сфере модернизация означает переход от авторитета вождя племени к системе избирательного права, представительства, политических партий и демократического правления. В сфере образования под модернизацией мыслятся ликвидация неграмотности, рост ценности знаний и квалифицированного труда. В религиозной сфере она выражается в освобождении от влияния церкви; в области семейно-брачных отношений —в ослаблении внутрисемейных связей и все большей функциональной специализации семьи; в области стратификации —в усилении значения мобильности, индивидуального успеха и ослаблении предписаний в зависимости от занимаемого положения [16].
Согласно неолиберальной точке зрения в основе всего лежит экономика, а в основе экономики лежит рынок. Любая общественная проблема (образование, медицина, оборона страны, социальная помощь, развитие национальных традиций и т. д.) должна решаться одним и тем же способом —привлечением рыночных сил.
В отличие от трактовки модернизационного процесса в классической теории как спонтанной тенденции, еаморазвивающейея «снизу», в неолиберальной теории модернизации утверждается, что «прогрессивные изменения» начинаются и контролируются «сверху» интеллектуальной и политической элитой, которая стремится вытащить свою страну из отсталости с помощью планируемых, целенаправленных действий.
В такой форме теория модернизации была легко усвоена правящими кругами России, не знавшими иного стиля руководства, кроме авторитарного. Она оправдывала все действия правящей верхушки: избиение участников мирных митингов и демонстраций, уничтожение любой оппозиции, жесткий контроль над СМИ, фальсификацию итогов всенародных выборов.
Интересно, что неолибералы получили признание на Западе только после того, как стали знаменитыми на Востоке. Например, Джеффри Сакс был никому не известен в Соединенных Штатах. Он сделал себе имя, уговорив российских руководителей принять его теорию «шоковой терапии». Эта теория была воплощена в программу «Скачок в рынок», разработанную летом 1989 г. Джеффри Саксом в сотрудничестве с Дэвидом Липтоном. В августе 1989 г. она обсуждалась в сенате США и была принята в качестве программы реформ для СССР и стран Восточной Европы. Финансировал работу над этой программой фонд Джорджа Сороса.
Сакс и Липтон исходили из того, конец коммунистической эры в СССР и других странах Восточной Европы ознаменовался острейшим финансовым кризисом. Чтобы продлить свое пребывание у власти, коммунистические правительства допускали перерасход бюджета на увеличение субсидий предприятиям и заработной платы недоволь-
-
[16] sSmelserFN.JJ. гProcesses of social change/// SmelserFN. JJ. (eel.). sSociology: ?An I Introduction N. Y, 1973. P. 747-748.
HИ ИНФОРМАЦИОННО
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ ному населению. Внешний долг СССР превысил 60 млрд дол., а внешний долг Польши достиг 40 млрд дол. Расплатиться с внешними долгами в условиях ухудшающейся экономики коммунистические режимы не могли, поэтому должны были пойти на предлагаемые им США реформы. Этому должно было способствовать и то обстоятельство, что коммунистические экономисты плохо знали механизм функционирования «рыночной экономики» и вынуждены были положиться на американских советников, имевших практический опыт проведения реформ в странах Латинской Америки.
Сакс и Липтон предлагали: 1) немедленно ликвидировать дотации государственным предприятиям, 2) прекратить контроль над ценами, 3) перейти к рыночному формированию курсов национальных валют, 4) принять меры по сокращению бюджетного дефицита 5) полностью открыть восточноевропейские экономики американскому капиталу. Авторы программы «Скачок в рынок» полагали, что благодаря этим мерам СССР и другие страны Восточной Европы смогут перейти к так называемой рыночной экономике за пять лет. Отвечая своим оппонентам, утверждавшим, что создание экономики западного типа —сложный процесс, требующий усилий нескольких поколений, они заявляли, что «рыночную экономику» не нужно заново изобретать методом проб и ошибок. Она уже существует. СССР и другие страны Восточной Европы должны лишь внести необходимые изменения в свои экономические институты, адаптировать их к условиям рынка [17]. То, что социалистические предприятия устроены совсем не так, чтобы работать по «рыночным» принципам, полностью игнорировалось.
Самым важным условием перехода к «рынку» Сакс и Липтон считали ликвидацию контроля над ценами, с тем чтобы организации и частные лица получили свободу обмена и торговли. Этого должно было быть достаточно для того, чтобы возникли рыночные структуры: валютные, фондовые и товарные биржи. Сакс и Липтон обходили проблему монополий, не раз за историю доказывавших свою способность душить мелкое предпринимательство в условиях свободного ценообразования. Напротив, они считали, что если предоставить все воле рынка, то старые предприятия окажутся в мучительном положении конкурентов новых, более эффективных компаний. Создатели программы «Скачок в рынок» не могли даже представить себе, что в критической обстановке «финансовой стабилизации», при массовом банкротстве старых предприятий и нищем населении, «новые, более эффективные компании» могут быть раздавлены падением спроса и налоговым прессом государства.
Следуя Милтону Фридману, Сакс и Липтон рассматривали инфляцию исключительно как «болезнь денежной системы». Они полностью игнорировали инфляцию, порождаемую уменьшением предложения или другими немонетарными причинами (например, ростом спроса под влиянием панического состояния рынка). Поэтому предлагавшиеся ими методы подавления инфляции были крайне примитивны. Они сводились к замораживанию заработной платы, ликвидации бюджетного дефицита, ограничению денежной массы и выдачи кредитов, а также регулированию курса национальной валюты.
С помощью своей программы молодой, малоизвестный профессор из Гарварда Джеффри Сакс в короткий срок сокрушил основу экономического могущества России и сразу стал знаменитым. Между тем до приезда в Россию он мало что знал об этой стране. Все его знание России было почерпнуто из публикаций в американских СМИ. Однако на руку ему сыграло общероссийское заблуждение, заключающееся в том, что если США построили эффективную экономику, значит, их ученые понимают, как ее нужно строить. А кто может это знать лучше профессоров из Гарварда? Ведь Гарвард — один из самых престижных и богатых университетов в мире. Его состояние оценивается в 25 млн дол.
-
[17] ДжеффрисС. Рыночная экономика и Россия.КМ.,1 1995.СС. 145
Одновременно возник другой вариант теории модернизации, развиваемый политологами. Если для неолибералов все проблемы заключаются в экономике, то политологи ставят на первый план социальные и политические институты. В качестве главной задачи модернизации они выдвигают демократизацию общественной жизни. Если в стране недостаточно демократии, нет конкурирующих за власть политических партий, то никакие экономические реформы не сделают ее современной.
Наконец, был предложен новый вариант антимодернизационной теории, наиболее ярко выраженный в книге «Столкновение цивилизаций» Сэмюэля Хантингтона. Автор выступил с чисто культурологической позиции, считая, что у каждой нации есть национальный дух, который позволяет объединить их в региональные группировки, названные им «цивилизации». Он утверждал, что не экономика или политика, а именно культура определяет все в общественном развитии. Хантингтон не сказал ничего принципиально нового, чего уже не было сказано в XIX в. Н. Я. Данилевским.
Как видим, все новые теории модернизации основаны на очень жестком упрощении. Ни у кого из представителей этих теорий нет и намека на то, что необходимо принимать во внимание все стороны общественной жизни, различные институты и интересы существующих социальных групп для того, чтобы понимать мир и реформировать его.
Казалось бы, все вышеперечисленные модернизационные теории должны конкурировать между собой хотя бы ради выбивания грантов. Но на деле сложилась уникальная ситуация, когда одна теория спасает другую. Как остроумно заметил профессор Калхун, «это можно сравнить с игрой в наперсток: когда люди разочаровываются в экономической шоковой терапии, можно перескочить на следующую программу создания демократических институтов и сказать, что в каких-то странах не существует достаточной демократии. Поэтому у них не работает экономика. Когда начинают не работать и демократические институты, тогда можно перескочить на культурное объяснение и сказать: такие люди, такая культура, они не могут построить демократическое общество» [18].
Заслуга американских социологов состоит не в новизне их теорий, а в объединении давно высказывавшихся идей в такую систему, которая способна охватить весь спектр общественных мнений, все политические позиции. При этом какая бы точка зрения ни господствовала в стране, советникам из США в ней всегда найдется место. Примитивизм теорий модернизации также имеет большой смысл. Такие теории легко усваиваются, они более понятны массам, их легче пропагандировать СМИ.
Теория модернизации оказалась достаточно эффективным инструментом для навязывания бывшим социалистическим странам утопических моделей «рыночной экономики» и «либеральной (открытой) экономической политики». При существовавших в этих странах ограничениях на выезд за рубеж легко было убедить население в том, что якобы эта экономическая модель существует в развитых странах.
Таким образом, если в 1950-е —1970-е годы была одна теория модернизации, то с конца 1980-х годов мы имеем дело с несколькими ее вариантами. Если в первый период своего существования теория модернизации отличалась значительной примитивизацией действительности, то ее современные варианты являются примитивизацией самой первоначальной теории модернизации.
Какую теорию модернизации исповедуют российские реформаторы?
Крах однолинейной марксистской теории исторического процесса, гораздо более изощренной, чем теория модернизации, казалось бы, создавал плохую почву для увлечения весьма примитивной однолинейной моделью. Но популярность теории модерни-
-
[ 18] http://www . inop. ru/ files/ calhoun.doc
H ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
LB БЮЛЛЕТЕНЬ зации в России растет, несмотря на явный провал всех реформ, осуществлявшихся в направлении модернизации.
Восприятие теории модернизации российским истеблишментом весьма своеобразно. В России редко вспоминают имена Талкотта Парсонса и тем более Эдварда Шилза. Гораздо чаще звучит имя Макса Вебера, из учения которого выброшен весь «протестантизм», остался только «дух предпринимательства», а также имена тех, кого на Западе относят чаще к критикам теории модернизации, чем к ее сторонникам (Эмиля Дюркгейма, Шмуэля Айзенштадта, Сюмюэля Хантингтона и др.).
В интерпретации российских авторов теория модернизации предстает как единственная достойная внимания теория общественного развития. Вот, например, как описывает ее И. В. Побережников: «По большому счету, существуют две полярные позиции для объяснения различий между обществами. Согласно одной точке зрения, человечество в любой точке земного шара развивается в соответствии с одними и теми же закономерностями; дифференциация же между обществами в большей или в меньшей степени объясняется порядком той фазы развития, на которой они находятся. По другой точке зрения, различия между культурными и социальными агрегатами постоянны и неискоренимы; универсалий, которые можно было бы применить к развитию всего человечества, просто не существует.
Первая точка зрения дала толчок для возникновения в середине XX в. и дальнейшего развития теории (или, скорее, теорий; теоретического направления) модернизации, внесшей заметный вклад в научную разработку проблем развития и в объяснение того, каким образом традиционное общество трансформируется в современное» [19].
Подобная поляризация видения мира, возможно, и характерна для части российской интеллигенции. Однако едва ли она допустима в серьезном научном сообществе, где давно уже отказались от подобной дихотомии и признают наличие как общих закономерностей, так и особенностей развития конкретных обществ. Но даже если бы такое понимание и существовало, то из этого вовсе не следует, что теория модернизации является единственным возможным объяснением общественного развития. Куда девались марксизм, позитивизм, структурализм и другие учения, выводящие социальные перемены из общих закономерностей? При всех недостатках этих теорий они основываются на более глубокой и обоснованной научной традиции, чем теория модернизации.
Вообще, российским сторонникам теории модернизации трудно понять, что не существует некоего ключа, который открывает абсолютно все двери в объяснении мира, потому что не существует необходимой логической связи между еекуляризмом, либерализмом, свободными рынками, демократическими институтами. Они связаны между собой только потому, что исторически возникли в такой связке в англоязычных странах в последние двести лет. В других районах мира возможны иные сочетания. Все то, что теория модернизации считает пережитками прошлого (национальные традиции, религиозные предписания, своеобразие общественных институтов и социальной структуры), в действительности является необходимой частью современности.
Если историк И. В. Побережников трактует модернизацию как многоаспектный, всеохватывающий процесс, то для идейного главы Высшей школы экономики Е. Г. Ясина модернизация сводится к сугубо экономическим, почти техническим вопросам. Вот какое определение модернизации он дал на II Международной научной конференции «Модернизация экономики России»:
-
[19] г Побережников V И. ЕВ.А Модернизационная перспектива: теоретике-методологические и дисциплинарные подходы //Третьи Уральские историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 1999. С. 16-25.
«Прежде всего, уточним, какой смысл мы вкладываем в понятие «модернизация» экономики. Буквально оно означает обновление, ликвидацию отсталости, выход на современный, сравнимый с передовыми странами уровень развития.
Речь идет, во-первых, об освоении производства продуктов современного технологического уровня в масштабах, позволяющих российским компаниям занять достойные позиции на мировых рынках.
Во-вторых, это обновление производственного аппарата, замена устаревшего оборудования и технологий на современные, более производительные.
В-третьих, это органическое включение в новейшие мировые инновационные процессы, полная интеграция в мировую экономику, скорейшее использование всех важных нововведений, в том числе новинок в области организации и управления...
В-четвертых, это переподготовка, переквалификация или замена кадров, переобучение и перевоспитание людей, если хотите, усвоение иного образа мышления, соответствующего требованиям времени...
В-пятых, это осуществление структурных сдвигов в экономике, формирование производственной структуры, отвечающей критериям развитой индустриальной страны. Это предполагает повышение в ВВП и экспорте доли продуктов с высокой добавленной стоимостью, в том числе продуктов новой информационной экономики, уход от однобокой сырьевой ориентации экспорта» [20].
Ясин рассматривает экономическую действительность как tabula rasa. Предполагается, что все экономические процессы можно в одночасье остановить, интересы экономических субъектов перечеркнуть, людей перевоспитать, внушить им «иной образ мышления» и заставить мировой рынок, перенасыщенный продуктами «новой информационной экономики», покупать такие же продукты из России.
Ясин не понимает основ экономической деятельности, если считает, что страну, не исчерпавшую экстенсивных возможностей развития, можно сразу включить «в новейшие мировые инновационные процессы». Он настаивает на «скорейшем использовании «всех важных нововведений, в том числе новинок в области организации и управления», которые, между прочим, рассчитаны на решение совсем иного комплекса задач, чем те, которые реально стоят перед Россией.
Для Ясина проблемы реформирования российской экономики решаются чрезвычайно просто: «Суть структурной перестройки и модернизации в переходный период состоит, в частности, в вытеснении нерыночного сектора и замещении его эффективным рыночным. Трудности трансформации для России во многом объясняются тем, что изначально вся советская экономика была нерыночной, а ее преобразование постоянно сопровождается противоречиями между необходимостью вытеснения нерыночных отношений и предприятий, высвобождением связанных в них ресурсов, а с другой стороны —тяжелыми в каждый данный момент социальными последствиями (подлинными или мнимыми) соответствующих действий. Порой это просто косность, нежелание менять привычные нормы поведения, порой —сопротивление сил, чьи интересы оказываются ущемлены. Всего этого у нас больше, чем в других странах с переходной экономикой» [21].
Однако в реальной жизни нет ни «рыночной», ни «нерыночной» экономики. Народное хозяйство любой страны включает как рыночные, так и нерыночные механизмы. Соотношение между ними определяется экономической целесообразностью. Рыночные отношения не всегда эффективны. При распределении общественных благ, социальной помощи, пенсий и льгот для героев и ветеранов, в домашнем хозяйстве
-
[20] http://www.hse.ru/ic2/materials_2/yasin.htm [21] Там же.
рыночные механизмы абсолютно неэффективны. В любом обществе экономические отношения в указанных областях осуществляются с помощью государственных институтов и семейных традиций. В то же время нет ни одного общества, в котором большой комплекс экономических проблем не решался бы с помощью рыночных отношений.
Общим заблуждением российских сторонников теории модернизации и реформаторов является оценка советской экономики как «нерыночной». Эта оценка воспроизводит известную идеологическую схему, провозглашавшую советскую экономику «плановой». Но это совершенно не соответствует действительности. В рамках советской экономики существовали и чисто рыночные отношения. Их субъектами были физические лица, кооперативные организации, теневики и контрабандисты. Даже некоторые государственные организации (комиссионные, антикварные, букинистические магазины, художественные салоны, система «Березка» со своей собственной валютой) являлись, по сути дела, посредниками в совершении чисто рыночных сделок.
Чисто рыночными были следующие элементы социализма: распределение хронически дефицитных товаров, таких как престижные товары зарубежного производства (система магазинов «Березка» со своим «березовым рублем», «черный рынок», товарные сделки между физическими лицами и др.), распределение произведений искусства, редких книг и антиквариата, оказание индивидуальных услуг (комиссионные, букинистические и антикварные магазины, индивидуальный пошив одежды и обуви, реставрация ювелирных изделий, произведений искусства, ветхих книг и ремонт зарубежных товаров), торговля высококачественными продуктами питания (колхозный рынок, ярмарки, товарные отношения потребительской кооперации по договорным ценам, продажа с рук) и др.
Поэтому задачей реформирования экономики должно было стать не отбрасывание социалистического наследия, а усиление содержащихся в ней рыночных элементов, их трансформация в направлении доминирующего и эффективного экономического механизма. Но этот путь не обещал быстрых перемен и потому не был принят под предлогом «принципиальной нереформируемоети социализма».
Российские сторонники теории модернизации верят в сформулированный Карлом Марксом тезис «неравномерности развития при капитализме». Эта вера не основана на глубоком понимании механизма социального развития, а является одной из тех мистификаций действительности, которыми так богато российское общественное сознание. Вот еще одна из причин того, почему неолиберальная теория «шоковой терапии» оказалась близка российскому восприятию общественного прогресса. Она содержит в себе марксистское понимание социальных перемен, совершающихся якобы в форме революционных скачков.
Одной из главных причин принятия «шоковой терапии» российской правящей элитой является ориентация на стратегию опережения. Сложная и не обещающая быстрого решения проблема поиска форм соединения российского культурного наследия с идеей развития, выявления в российской культуре установок, этических норм, направленных на активное отношение к миру, на хозяйственное развитие и накопление богатства, не по душе российскому правящему классу. Для него основная цель модернизации заключается не в том, чтобы создать лучшие условия жизни для населения, а в том, чтобы на костях этого населения превратить Россию во вторую по экономическому могуществу мировую державу, за короткий срок вступившую на путь постиндустриального развития. В противном случае модернизация вообще теряет всякий смысл для российской правящей элиты.
В период «перестройки» второй половины 1980-х годов теория модернизации послужила отправной точкой для создания проектов экономических и социально-политических реформ. Все авторы этих проектов исходили не из реальных проблем России, а из идеализированных представлений о западном обществе, институты которого старательно копировались.
Летом 1989 г. была создана государственная комиссия по экономической реформе под руководством академика Л. И. Абалкина. Уже 14 ноября 1989 г. проект реформы был разработан, представлен Совмину и утвержден. Предполагалось провести реформу в два этапа. Первый из них (1 990—1992 гг.) ставил задачу стабилизировать экономику: преодолеть бюджетный дефицит путем уменьшения государственных расходов и увеличения налоговых платежей; ликвидировать разбаланеированноеть потребительского рынка на основе повышения цен, ограничения роста заработной платы, уменьшения размеров отложенного спроса и сокращения денежной эмиссии. Наряду с этим в рамках первого этапа планировалось принять меры рыночного характера: ввести гибкую систему ценообразования, реагирующую на колебания спроса и предложения, но еще не полностью свободную от контроля; закрыть нежизнеспособные в условиях хозрасчета предприятия; разработать новое хозяйственное законодательство и т. д. Задачей второго этапа (1993—1995 гг.) было создание «рыночных условий хозяйствования». Для этого вводился целый ряд заимствованных у западных стран институтов: товарные биржи, акционерные предприятия, коммерческие банки; учреждались рынок ценных бумаг, валютная биржа; вводились антимонопольное законодательство, закон о конкуренции, частичная конвертируемость рубля и т. д. Экономика открывалась для иностранных капиталовложений.
Однако в СМИ данный проект был подвергнут критике как недостаточно радикальный и слишком медленный. В противовес ему появился ряд «радикальных» проектов. Первоначально Михаил Задорнов, Алексей Михайлов и Григорий Явлинский подготовили программу «400 дней», потом Михаил Бочаров написал программу «500 дней», благодаря чему выслушал от вышеназванных авторов обвинение в плагиате.
Спор между «радикалами» и «консерваторами» осложнялся столкновением между М. С. Горбачевым и Б. Н. Ельциным. Пытаясь примирить все стороны, союзное правительство в начале 1990 г. представило Съезду народных депутатов документ «О подготовке материалов, необходимых для осуществления перехода к планово-рыночной экономике». В нем, в частности, предусматривались дальнейшие шаги в направлении вестернизации: создание системы коммерческих банков, фондовых бирж, акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, поэтапная либерализация цен, изменение налоговой системы и хозяйственного законодательства и т. д.
27 июля 1990 г. между М. С. Горбачевым и Б. Н. Ельциным был достигнут «консенсус». В результате была образована рабочая группа для подготовки концепции союзной программы перехода на рыночную экономику как основы Союзного договора в составе С. С. Шаталина, Н. Я. Петракова, Л. И. Абалкина, Г. А. Явлинского, А. П. Вавилова, Л. М. Григорьева, М. М. Задорнова, В. А. Мартынова, В. М. Машица, А. Ю. Михайлова, Б. Г. Федорова, Н. П. Шмелева, Е. Г. Ясина. Однако работать над совместным проектом эта рабочая группа не смогла. Она раскололась на две группы. Одна, под руководством Н. И. Рыжкова, разрабатывала в подмосковной правительственной резиденции «Сосны» более осторожный вариант программы, другая, под руководством С. С. Шаталина, работала в «Сосенках» над радикальным вариантом, получившим заимствованное у Бочарова название «500 дней».
Чтобы спасти правительственную программу, Рыжков создал специальную комиссию по оценке альтернативных вариантов перехода к рынку. Возглавить ее было предложено Станиславу Шаталин}?, но он, не желая признать программу «500 дней» альтернативной, отказался и главой комиссии стал Абел Аганбегян. Подобранный им состав комиссии осудил варианты рыночного экстремизма. Однако во второй половине августа Горбачев демонстративно нанес визит в «Сосенки», не удостоив посещением «Сосны».
Почувствовав, что спасти правительственную программу нельзя, Рыжков предложил Горбачеву не выносить на обсуждение Верховного Совета две программы перехода к рынку, а разработать компромиссный вариант —президентский. Горбачев согласился, но 3 сентября программа «500 дней» была роздана депутатам Верховного Совета РСФСР, а 10 сентября началось ее обсуждение. Узнав, что его провели, Рыжков 11 сентября выступил перед Верховным Советом СССР с докладом «О подготовке единой общесоюзной программы перехода к рыночной экономике». Это вызвало недоуменные вопросы депутатов: почему правительственный вариант не обсуждался? почему не выносились на обсуждение два варианта сразу? Сумятицу усилил Геннадий Бурбулис, который прибыл из Белого дома и заявил, что в 14.00 депутаты России проголосовали за программу «500 дней».
Казалось бы, вопрос решен. Россия определилась. Верховный Совет СССР будет вынужден присоединиться к ее решению. 21 сентября Шаталин и его команда выступили перед Верховным Советом СССР, после чего было принято решение под руководством Горбачева провести работу по созданию общесоюзной программы перехода к рынку на основе программы «500 дней». Но помешало крушение единого экономического пространства СССР.
19 октября 1990 г. в обстановке «суверенитета» и усиливавшихся экономических претензий республик друг к друг}? вместо доработанной программы «500 дней» Горбачев неожиданно выступил в Верховном Совете с докладом «Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике». Никакой общесоюзной программы этот документ уже не предусматривал. Вместо нее он содержал концепцию, в которой признавалось право каждой республики принимать свои программы перехода к рынку при сохранении единства денежной, валютной, и кредитной систем, а также таможенной политики.
Началась серия отставок. Первым подал в отставку Г. А. Явлинский. Затем — Л. И. Абалкин. После этого стала неизбежной отставка Н. И. Рыжкова.
Последнее союзное правительство не страдало болезнью реформаторства. В. Павлов ограничился обменом крупных купюр, а также повысил цены в государственном секторе торговли. Эти меры привели к кратковременной стабилизации экономики. Однако арест большинства министров после августовских событий уничтожил исполнительную власть в СССР и вызвал новый виток дестабилизации. Вслед за этим была уничтожена и законодательная власть.
Тем временем республики воспользовались правом самостоятельно проводить реформы. На III Съезде народных депутатов РСФСР Иван Силаев представил развернутую программу реформирования российской экономики. Она была создана под руководством выпускника мехмата МГУ, кандидата экономических наук Евгения Сабурова, назначенного Ельциным в мае 1991 г. главой группы разработчиков программы экономической реформы в России.
Программа предусматривала начать реформу осенью 1991 г. и завершить ее к концу 1993 г. Выделялось пять (или шесть, как в одном из вариантов) возможных «критических точек», которые должна была преодолеть реформа. В соответствии с этим она подразделялась на пять (или шесть) этапов.
На первом этапе (август —декабрь 1991 г.) осуществляется «малая» приватизация путем перехода к частным лицам магазинов, общепитовских точек и предприятий бытового обслуживания. Населению раздаются «приватизационные чеки» для приобретения государственных предприятий или жилья, которое отныне бесплатно не предоставляется. На селе создаются «фермерские зоны». Государственные предприятия «коммерциализируются», а для управления ими создаются холдинговые компании. Только после этого начинается постепенная либерализация цен. К концу 1991 г. по свободным ценам должны были продаваться до 70 % промышленных товаров (процент зависит от степени приватизации), а также некоторые продукты питания. В целях стабилизации бюджета правительство брало на себя обязательство заморозить свои расходы до конца 1991 г.
На втором этапе (январь —апрель 1992 г.) «малая» приватизация завершается и начинается «большая». Предприятия акционируются, и их акции продаются гражданам. Приватизируется вся сельскохозяйственная инфраструктура. Вводятся налоги на добавленную стоимость, имущество, операции с ценными бумагами и акцизы. Осуществляется административное повышение цен на основные продукты питания. По мере роста цен проводится индексация заработной платы. Гарантируется минимум зарплаты на уровне черты бедности. Понижается коммерческий курс инвалютного рубля с последующей его корректировкой на валютных биржах. Цены на все промышленные товары «отпускаются», а на основные продукты питания продолжают регулироваться.
На третьем этапе (май —июль 1992 г.) издается закон о банкротстве. Из-за сокращений и ликвидации нерентабельных предприятий появляется безработица. Для ее смягчения организуются оплачиваемые общественные работы, предоставляется досрочная пенсия. В целях повышения мобильности рабочей силы отменяется прописка.
На четвертом этапе (август —октябрь 1992 г.) по результатам урожая корректируются цены на продовольствие и промышленные товары. В благоприятном случае цены полностью освобождаются, а курс рубля приближается к свободному. Ослабляются экспортные ограничения.
На пятом этапе (конец 1992 —конец 1993 г.) вступает в действие жесткая денежная политика и достигается стабилизация цен. Из-за напряженности бюджета возможно увеличение ставки налога на прибыль до 35—40 %. В основном завершается приватизация. В частные руки переходят 50 % государственных предприятий. В результате в стране создается класс собственников-инвесторов. Этим достигается цель реформы.
В первоначальном варианте выделялась еще одна критическая точка и, значит, еще один этап —январь 1993 г., когда должны были быть введены частная собственность на землю и ее свободная купля-продажа. Однако в последний момент Сабуров понял трудности осуществления такой реформы в условиях российской системы землепользования и отказался от этой идеи.
В каждой критической точке предусматривались разные варианты поведения реформаторов в зависимости от тех ситуаций, которые разработчики программы смогли предусмотреть. Например, если приватизационные чеки пойдут не на фондовый рынок, а на потребительский, операции с ними будут обложены налогом, а приватизируемые предприятия будут продаваться иностранным инвесторам.
Программа была одобрена III Съездом народных депутатов РСФСР. 15 августа Сабуров был назначен указом Ельцина заместителем премьер-министра и министром экономики РСФСР. Сабуров давал журналистам многочисленные победные интервью. Только одно его беспокоило: как бы начало реформы не сорвали затяжные парламентские дебаты. Тем не менее реформа по Сабурову не началась совсем по другим причинам.
На 1 октября в Казахстане была назначена встреча руководителей 13 республик (без Литвы и Эстонии). Однако Ельцин в Алма-Ату не явился. Он вместе с Шамилем Тарпищевым срочно уехал в Сочи. Представлять же РСФСР на казахстанской встрече Ельцин поручил Сабурову.
Вице-премьер не только выполнил поручение, но и подписал от имени РСФСР соглашение 12 республик (без Латвии) об экономическом сотрудничестве. Однако в день подписания этого соглашения государственный секретарь Геннадий Бурбулис, выступая перед депутатами Верховного Совета РСФСР, заявил об особой роли России
-
■ ИНФОРМАЦИОННО
как правопреемници СССР. Поэтому «подписанию экономического соглашения должно предшествовать заключение политического союза». 2 октября Олег Лобов сообщил, что Совет Министров РСФСР дезавуирует подпись Сабурова под экономическим соглашением 12 республик.
Обиженный Сабуров 3 октября вылетел в Сочи, а вслед за ним вылетел и Бурбулис. Неизвестно, какой разговор вели они с Ельциным и даже состоялась ли их встреча вообще. Известно только, что 5 октября Сабуров ушел в отставку, не пробыв на посту вице-премьера и двух месяцев.
В печати отставка Сабурова приписывалась «проискам реакционеров». Тем более что подпись «прогрессивного» Витольда Фокина под этим соглашением тоже была дезавуирована «реакционными верховниками» Украины, а в знак солидарности с Сабуровым вместе с ним ушел в отставку и другой «прогрессивный» вице-премьер Игорь Гаврилов.
Вернувшийся из Сочи Ельцин не только подтвердил полномочия Сабурова подписать документ, но одобрил и сам текст экономического соглашения, заявив, что о политическом союзе не может быть и речи. Экономическое соглашение было восстановлено в юридических правах (правда, его тогда окончательно подписали только 3 из 12 республик, а затем оно было прочно забыто). Тем не менее Ельцин не призвал Сабурова взять свое заявление об отставке обратно.
Усиливавшаяся конфронтация между Ельциным и Горбачевым, обстановка взаимного «подсиживания», «распихивания конкурентов локтями» создали весьма негативный фон для разработки общесоюзной или хотя бы республиканской программы реформ. В этих условиях не было времени задуматься над возможными результатами тех или иных предлагавшихся мер, а сами эти меры выдвигались не столько в силу их целесообразности, сколько для того, чтобы обогнать соперников с точки зрения «прогрессивности» и «радикальности».
Наиболее основательной представляется программа модернизации Сабурова. В частности, только в ней правильно определена последовательность мероприятий: сначала создание слоя собственников —субъектов рыночных отношений, а затем переход к рыночным институтам и свободным ценам. Однако трудно сказать, могла ли эта модернизационная реформа иметь успех в России. В Крыму, куда Сабуров уехал проводить свою реформу, у него ничего не получилось. Слишком резким был разрыв между создаваемыми институтами и реальной хозяйственной практикой.
«Шоковая терапия»
28 октября 1991 г. на V съезде народных депутатов РСФСР Борис Ельцин выступил с неожиданной речью. Он заявил народным избранникам, что цены надо «отпустить» и что благодаря этому «прилавки наполнятся» и каким-то непонятным способом всем разом станет хорошо.
Первыми шок испытали экономисты. Они еще из вузовских учебников затвердили, что «в стране монополий» цены равновесными быть не могут. Это продемонстрировал и опыт «шоковой терапии» в Польше, после провала которой главные экономические дискуссии велись уже в плоскости, как проводить приватизацию: постепенно или «обвально». «Отпуск цен» считался возможным только после ликвидации государственных монополий. И вдруг... Какое безрассудство! Кто же автор столь «смелого» проекта? Ринулись искать.
Повезло корреспондентам «Коммерсанта». Они установили, что текст выступления президента готовился на правительственной даче —15, в «Сосенках», где обосновалась группа молодых реформаторов в составе Егора Гайдара, Андрея Нечаева, Владимира Машица, Константина Кагаловского, Александра Шохина, Николая Федорова и «примкнувшего к ним» Михаила Полторанина. Кроме них на даче были обнаружены экономические советники из США во главе с Джеффри Саксом.
-
14 декабря 1991 г. вышел в свет 7737-й номер английского журнала «Экономист». В нем было две статьи о России. В первой из них содержался устаревший для российских читателей материал о беловежских соглашениях. Однако вторая, никем не подписанная, была настоящей сенсацией. В ней говорилось, что 2 января (а не первого, как определили корреспонденты «Коммерсанта») Россия планирует освободить цены, сделать рубль конвертируемым и начать сокращение государственного бюджета.
Реформа должна была начаться 16 декабря одновременно в России, на Украине и в Белоруссии, но два последних государства оказались неподготовленными и попросили отсрочки на две недели. Горбачев, как это видно из опубликованного 28 ноября минской «Народной газетой» его интервью, тоже знал о том, что российское правительство разослало республикам письма с предложением начать одновременно с Россией отпуск цен, конвертацию рубля и сокращение бюджетных расходов.
Как писал «Экономист», российская программа реформ будет более «шоковой», чем польская. Сразу же 2 января будут освобождены цены практически на все товары. В отличие от Польши, где курс злотого был зафиксирован почти мгновенно с помощью американского стабилизационного кредита, Россия установит первоначально плавающий курс рубля. Благодаря снятию дотаций и сокращению военных расходов дефицит бюджета снизится с 20 до 5 % от размеров валового национального продукта. Для покрытия остатка дефицита будут увеличены налоги до 40 % от валового национального продукта. Будет предпринята попытка установить жесткий контроль за денежной массой. Для этого правительство попытается подчинить себе Центральный банк.
Публикация «Экономиста» вызывает целый ряд недоуменных вопросов. Во-первых, не ясны задачи реформаторов. Программа Сабурова ставила целью создание в России класса «собственников-инвесторов». Изложенная же «Экономистом» программа не шла дальше освобождения цен, финансовой стабилизации и сбалансированности бюджета. Даже если допустить, что эти макроэкономические задачи можно выполнить в условиях России, что, как показал опыт, достигается лишь на короткое время, ценой гигантских потерь в производственной и потребительской сферах, то совершенно не ясен экономический эффект от этого.
Сравнив ход реформы Ельцина —Гайдара с программой Сакса —Липтона, можно легко обнаружить, что в их основе лежит общая идеология.
Сенат, одобрив программу «Скачок в рынок», принял решение о выделении средств для пропаганды ее основных идей в СМИ и проведении встреч и конференций с восточноевропейскими политиками и экономистами. Я присутствовал на одной из таких конференций, состоявшейся в Хьюстоне в ноябре 1989 г. На нее были приглашены дирекция и руководители секторов Института экономики АН СССР. Правда, Леонид Абалкин, недавно назначенный заместителем Николая Рыжкова, не приехал, чем вызвал разочарование американцев. Возглавлял советскую делегацию заместитель директора ИЭ АН СССР, член Государственной комиссии Совмина СССР по экономической реформе Николай Климов.
В докладах американских экономистов главными были следующие две темы: 1) Для построения рыночной экономики следует в первую очередь ликвидировать контроль над ценами и освободиться от дотаций предприятиям, 2) Не следует бояться, что результатом будет инфляция и снижение жизненного уровня населения —это неизбежная плата за переход к рынку. Особенно удивительно было слышать это от тех американских экономистов, которые в течение многих лет были советниками венгерского правительства. Смысл их выступлений явно противоречил идеологии венгерской реформы, не требовавшей никакой платы за рыночную экономику.
Прочитав свои доклады, американские экономисты с большой неохотой отвечали на вопросы и затем, ссылаясь на занятость, покидали аудиторию. К концу второго дня
Н ИНФОРМАЦИОННО заседаний в зале остались, кроме советских экономистов, только официальный организатор встречи профессор Хьюстонского университета Пол Грегори, ряд его сотрудников, а также несколько журналистов.
Я спросил у Пола Грегори, почему его коллеги уходят от вопросов. Он ответил, что долгие годы американские экономисты разрабатывали вариант постепенной трансформации социалистических экономик в капиталистическую. Однако крушение социализма произошло очень быстро и американцы пока еще точно не знают, какие это может иметь последствия.
Дискуссии с ведущими советскими экономистами в Хьюстоне не получилось. Однако с конца 1989 г. страсти вокруг программы «Скачок в рынок» разгорелись в Москве, где Джордж Сорос вместе с российскими «благотворительными организациями» создал фонд «Культурная инициатива», поддерживавший «переход к рынку» СССР по сценарию Сакса —Липтона.
Фонд оказывал поддержку той части российской интеллигенции, которая требовала немедленного перехода к «рыночным отношениям» и критиковала правительственные программы реформ (в их числе Юрий Афанасьев, Николай Петраков, Татьяна Заславская, Борис Раушенбах и др.). Всячески рекламировался опыт «шоковой терапии» Сакса —Бальцеровича, преподносившийся российской общественности, вопреки фактам, как необычайно успешный.
Большое значение имели встречи руководителей СССР и России с американскими политиками и экономистами. Николай Рыжков «малологичные амплитуды колебаний» Горбачева объясняет наличием кого-то «достаточно слушаемого в его ближайшем окружении», кого-то, кто постоянно и настойчиво убеждал президента в том, что его «правительство консервативно и антиперестроечно». Рыжков прямо называет эту фигуру —тесно связанного с фондом Сороса Николая Петракова: «Невесть какими путями он стал помощником сначала Генерального секретаря ЦК КПСС, а потом и Президента Горбачева».
В свите Горбачева было немало и других экономистов, способных толкать его в направлении «рыночного экстремизма»: Отто Лацис, Станислав Шаталин, Григорий Явлинский. Так что Петраков не был одинок. Однако им противостояли не менее влиятельные фигуры: Леонид Абалкин, Абел Аганбегян, да и сам Рыжков. Мнение одной группы вполне нейтрализовывалоеь мнением другой, хотя, конечно, этот «раздрай» мог приводить к постоянным колебаниям президента. Но следует обратить внимание на несомненную корреляцию между зарубежными контактами Горбачева и изменением его позиции в отношении программ экономических реформ.
Именно после визита в США в мае —июне 1990 г. Горбачев изменил свое отношение к правительственной программе и стал склоняться на сторону программы «500 дней». Чрезвычайно показательно, что его позиция изменилась за считанные дни. Накануне визита в интервью журналу «Тайм» Горбачев сказал: «Мы основательно обдумали, как идти вперед. Рассмотрели и вариант шоковой терапии. Вместо этого решили идти вперед радикально... но без шоков. Один-два года потребуется для того, чтобы внедрить рыночные механизмы и инфраструктуру. Но чтобы создать подлинную рыночную экономику, потребуется больше времени». После же возвращения из США президент заявил, что снижение жизненного уровня населения в результате рыночных реформ неизбежно и надо только продумать, как сделать потери населения минимальными. Американское влияние в ходе этого визита испытали на себе и входившие в состав делегации Юрий Маслюков и Станислав Шаталин. Последний после визита неожиданно для многих выступил в поддержку планов «рыночного экстремизма» и даже стал соавтором программы «500 дней». Интересно также, что фигура Маслюкова выдвигалась на освободившийся из-за болезни Рыжкова пост премьер-министра.
Вообще, иностранное воздействие испытали на себе все, кто имел дело с реформами советской экономики. С Рыжковым вел беседы председатель Совета управляющих федеральной резервной системы США Алан Гринспен, у Абалкина были тесные и необычайно теплые контакты с Соросом. Кстати, первоначально еороеовекий фонд «Культурная инициатива» располагался на 13-м этаже абалкинского Института экономики.
Большое значение для распространения программы «Скачок в рынок» среди российской научной интеллигенции имел основанный Саксом в Москве Институт экономического анализа. Члены этого института не только бомбардировали правительство своими многочисленными аналитическими материалами, но и вели агитационную работу среди преподавателей и студентов гуманитарных кафедр ряда университетов.
Главным аргументом служило то обстоятельство, что реформы по типу «скачка в рынок» были испробованы в Латинской Америке и ведутся в Польше. При этом результаты этих реформ либо вообще не освещались, либо излагались в рекламном духе, по типу рекламы знаменитого МММ. Тот аргумент, что Россия обладает значительными особенностями по сравнению с другими странами (hie Rhodus, hie salta!), отвергался e ходу: мол, экономика везде устроена одинаково (!).
На положение членов правительства и позицию депутатского корпуса сильное влияние оказывало шахтерское забастовочное движение, не ограничивавшееся экономическими требованиями, а выступавшее и е политическими ультиматумами.
Здесь большую роль играла «частная некоммерческая» организация «Партнеры по экономической реформе», которая официально была основана «для оказания технического содействия и обучения по технике безопасности и охране труда, производительности и эффективности производства в угольных бассейнах России, Украины и Казахстана». В 1989 г. будущие лидеры организации посетили некоторые угледобывающие регионы бывшего Советского Союза, а через некоторое время был создан независимый профсоюз горняков, ставший инициатором забастовочного движения. Его представители ездили в США в январе 1990 г. и встречались с руководителями профсоюзов и управленческого аппарата угледобывающей промышленности США. 7—22 июня 1991 г. группа от угольной промышленности США, возглавляемая Алеери, посетила Советский Союз. Как следствие июньского визита и последующих шагов, был организован так называемый угольный проект, который 23 января 1992 г. на Президентской конференции по содействию развитию СНГ был поддержан правительством США. Это позволило американцам вполне официально субсидировать шахтерское движение.
Существовали и другие многочисленные центры воздействия на руководство СССР и России в целях принятия за основу реформ программы «Скачок в рынок», которая с началом польского эксперимента получила название «шоковой терапии».
Мощное давление с Запада в пользу реформ Сакса привело к тому, что в нашей стране никто из влиятельных экономистов уже не сомневался: речь идет о чрезвычайно эффективном и быстром способе модернизации экономики. В мае 1990 г. по заказу Совмина СССР было проведено моделирование «движения к рынку». Сравнивались два варианта реформ: «абалкинский» и «саксовский». Первый предусматривал активное сдерживание государством инфляции, поэтапную структурную перестройку экономики и постепенный переход к эквивалентному обмену. Второй полагался всецело на стихийное формирование рыночного равновесия. Согласно проведенным расчетам, в случае осуществления первого варианта за пять лет национальный доход должен был возрасти на 10—15 %, а реальные доходы на душу населения — на 5—10 %. В случае же осуществления второго варианта рост национального дохода за тот же срок составил бы 38—41 %, а реальных доходов на душу населения —25—30%. Однако второй вариант, по мнению «специалистов», обладал маленьким изъяном: он допускал на первых н ИНФОРМАЦИОННО порах глубокий спад производства, массовую безработицу, банкротства предприятий. Первый же вариант был свободен от этих недостатков.
Очевидно, что расчеты проводились на основе никуда не годных моделей и ставили своей целью не выяснить истину, а одинаково угодить противоборствующим политическим силам. Ведь достаточно было открыть статистические справочники, чтобы установить, что и спустя десять лет после проводимых Саксом в странах Латинской Америки реформ ни в одной из них национальный доход существенно не вырос. Более того, в большинстве этих стран его рост оставался отрицательным. Не удалось добиться даже финансовой стабилизации (табл. 1).
Таблица 1 Экономический рост и инфляция в Латинской Америке в 1981—1990 гг., (среднегодовые данные)
|
Страна |
ВНП на душу населения |
Индекс потребительских цен |
|
Аргентина |
-2,5 |
498,5 |
|
Боливия |
-2,6 |
256,4 |
|
Бразилия |
-0,6 |
375,3 |
|
Чили |
1,3 |
20,4 |
|
Мексика |
-0,7 |
69,8 |
|
Перу |
-3,7 |
377,6 |
Источник: Джеффри С. Рыночная экономика и Россия. М., 1995. С. 22.
Советские специалисты в области математической экономики преподнесли сторонникам Сакса прекрасный подарок. Недаром их весьма сомнительные результаты не только не оспаривались идеологами «шоковой терапии», но и всячески ими пропагандировались. Тем не менее в 1990 г. Совмин СССР не решился подвергать народ «шоковым» испытаниям и высказался за «медленные» реформы.
Иначе отнеслись к экономическим рецептам Джеффри Сакса в Польше, где в 1989 г. состоялись «контрактные» парламентские выборы и было создано первое некоммунистическое правительство Тадеуша Мазовецкого. «Газета выборча» назвала Сакса «вторым Грабским», и вскоре он был приглашен в Варшаву в качестве экономического советника.
В январе 1990 г. в Польше был снят контроль над ценами и отменены государственные субсидии предприятиям. К февралю рост потребительских цен составил 77 %, а за весь 1990 г. — 555,4 %. Началось сокращение национального дохода. В 1990 г. он упал на 12 %, а в 1991 г. — на 9 %. Промышленное производство сократилось еще более значительно: в 1990 г. на 24 %, а в 1991 г. — на 12 %. На 17 % упал товарооборот. Уровень безработицы достиг 15,7 %. На 5 % повысилась смертность и на 4 % сократилась рождаемость.
Критика польского эксперимента началась сразу же после его старта. Экономист Рафал Кравчик писал: «Невозможно просто внезапно запустить рыночные механизмы в совершенно не подготовленной для этого экономической структуре. Надежда на то, что шок такого рода самопроизвольно приведет к гладкому переходу к рыночной экономике, не оправданна. Нет ничего иллюзорнее и опаснее для будущего народного хозяйства, чем терапия такого рода, ибо она ведет к хаосу».
После того как правительство осуществило пакет своих мероприятий, вместо оваций оно получило еще более жесткую критику: «Многое указывает на то, что после рывка первых дней этого [1990. — Ю. 5.] года реформа запуталась в собственных противоречиях из-за того, что у теоретиков воображение преобладает над знанием экономической жизни. Программа, которая, без сомнения, ликвидировала кошмар очередей и погоню за недоступными товарами, не смогла, однако, ликвидировать такое неприятное явление, как углубляющаяся рецессия. Более того, правительство, по-видимому, не имеет никакой законченной концепции дальнейших действий... Время, предназначенное в Польше для проведения экономических реформ, уходит на ожидание. Ожидание чего? Ожидание, что «рыночные силы» самостоятельно справятся с экономическим спадом? Ожидание помощи Запада? Внезапного роста предприимчивости и практичности все еще остающихся в собственности государства предприятий? Терпеливости и жертвенности легковерного общества? Вот эти-то надежды беспочвенны».
В конечном счете реформы Сакса — Бальцеровича привели в Польше к отставке «правительства реформ», преобладанию в парламенте бывших коммунистов, формированию прокоммунистического кабинета министров и к избранию бывшего коммуниста президентом страны. Понятно, что в этих политических условиях капиталистическая трансформация польской экономики оказалась заблокированной. Был частично восстановлен контроль над ценами, введены протекционистские меры для национальной экономики, государственные предприятия вновь стали получать дотации, 20 % государственных доходов стало расходоваться на социальную помощь (до реформы Сакса— Бальцеровича —10 %), что привело к новому дефициту бюджета. А такие важнейшие проблемы, как приватизация и создание конкурентоспособной экономики, оказались нерешенными.
Казалось бы, Саксу не оставалось ничего другого, как признать полный крах своей «шоковой терапии». Однако его оценка результатов польского эксперимента была иной: «...в 1992 г. в стране возобновился рост промышленного сектора, как и экономики в целом. Фактически из всех государств Восточной Европы и бывшего Советского Союза Польша стала первой страной, в которой возобновился экономический рост. К 1994 г. стало ясно, что в Польше произошли наименьший совокупный спад экономики и самое быстрое оздоровление производства».
Закрывались шахты и предприятия легкой промышленности. Падал физический объем потребления на душ}? населения. Как можно назвать это «оздоровлением»? Отмеченный же Саксом экономический подъем происходил в Польше не благодаря его реформам, а благодаря отказу от них, в результате реализации экономической программы нового прокоммунистического польского правительства. Вместо мифического «оздоровления производства» произошел частичный отход к коммунистическому механизму экономической стимуляции.
Грубое искажение экономической действительности, приписывание чужих успехов своей программе реформ —вот в чем ярче всего проявилось «реформаторство» Джеффри Сакса.
Стратегические цели «шоковой терапии» были названы Джеффри Саксом «структурным корректированием». В чем оно заключается? Если коротко, то вот в чем: «В стране сформировалась очень нездоровая структура экономики. Огромное количество людей работает на экономически нежизнеспособных предприятиях и живет в экономически бесперспективных районах. В будущем должны произойти колоссальные изменения в существующих видах трудовой деятельности, если России суждено преодолеть кризис...»
Очевидно, что поставленная задача: ликвидировать массу «нежизнеспособных» предприятий в «бесперспективных» местах, построить массу «жизнеспособных» предприятий в «перспективных» местах и переселить туда население —труд не для одного поколения. Однако, по уверениям Сакса, этого можно добиться за два-три года.
■ информационно го ■ аналитический
■ бюллетень
Какие же предприятия и где нам нужно было ликвидировать, а какие и где построить? Вместо того чтобы сказать об этом прямо, Сакс затеял примитивную игру, рассчитанную на доверчивость читателя: «Прежде деятельность государственных плановых органов подчинялась одной цели: превратить Россию в могучую военную сверхдержаву. Ради ее достижения все ценнейшие ресурсы страны —научные, сырьевые, валютные —направлялись на нужды военно-промышленного комплекса в ущерб производству потребительских и экспортных товаров. В результате сформировалась «кривобокая» экономика: страна в огромных размерах производила сталь, электроэнергию и химикаты, но в то же время была неспособна строить жилье, выпускать одежду, мебель или бытовую электронику».
Сталинская экономика действительно страдала сильным «военным акцентом», хотя и в те годы в стране строилось жилье, производились одежда и мебель. Что же касается бытовой электроники, то ее в эпоху Сталина не было не только в СССР, но и во всем мире. Но уже Георгий Маленков поставил вопрос о переносе «центра тяжести с тяжелой промышленности на легкую». В период правления Хрущева страна была застроена пятиэтажками с пониженными потолками и совмещенными санузлами, куда вселились 98 млн человек, а в годы правления осмеянного СМИ Леонида Брежнева 183 млн человек переехали в новые более благоустроенные квартиры. В общежитиях жили только 12 млн человек —студенты и молодые бессемейные рабочие. Выходит, не только ракеты и подводные лодки производил СССР.
Еще Хрущев поставил перед экономикой СССР задачу «догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения», а к 1970 г. —занять первое место в мире по уровню народного благосостояния. Это оказалось утопией, но многому научило советских руководителей. В 1971 г. был принят IX пятилетний план с куда более скромной задачей: «обеспечить подъем материального и культурного уровня трудящихся». Как выяснилось, и плановая экономика на многое способна. Хоть и не во всем мы США «перегнали», но кое в чем нам это удалось (табл. 2).
Таблица 2
Производство товаров на душу населения
|
Товары |
1970 г. |
1980 г. |
1985 г. |
|||
|
США |
СССР |
США |
СССР |
США |
СССР |
|
|
Зерновые, кг |
915 |
769 |
1191 |
712 |
1455 |
691 |
|
Мясо, кг |
117 |
51 |
119 |
57 |
118 |
62 |
|
Молоко, кг |
259 |
342 |
256 |
342 |
271 |
355 |
|
Масло животное, кг |
2,5 |
4,4 |
2,3 |
5,2 |
2,4 |
5,8 |
|
Яйца, шт. |
334 |
165 |
306 |
252 |
285 |
275 |
|
Сахар, кг |
23 |
42 |
21 |
38 |
24 |
42 |
|
Виноград, кг |
13,7 |
16,5 |
22,3 |
25,0 |
21,3 |
20,7 |
|
Обувь, пар |
2,7 |
2,8 |
1,7 |
2,8 |
0,9 |
2,9 |
|
Шерстяные ткани, м2 |
1,2 |
2,6 |
0,6 |
2,9 |
0,7 |
2,5 |
|
Хопчатобум. ткани, м2 |
31 |
25 |
17 |
27 |
16 |
28 |
|
Мыло, кг |
4,4 |
5,9 |
3,9 |
5,9 |
4,4 |
5,5 |
|
Холодильники, шт. на 1000 чел. |
26 |
17 |
23 |
22 |
29 |
21 |
|
Стиральные м., шт. на 1000 чел. |
21 |
22 |
20 |
14 |
25 |
21 |
|
Телевизоры, шт. на 1000 чел. |
40 |
28 |
45 |
28 |
49 |
34 |
|
Легковые авт., шт. на 1000 чел. |
32 |
1,4 |
28 |
5 |
29 |
5 |
Источник: СССР и зарубежные страны. 1988. Статистический сборник. М., 1990.
Конечно, по легковым автомобилям СССР здорово уступал США (правда, это компенсировалось развитием общественного транспорта), но по остальным товарам американское превосходство было куда менее заметным, а по многим товарам народного потребления СССР даже превосходил США. Так что не только по стали, электроэнергии и химикатам СССР вырвался вперед. Теория «военной сверхдержавы» рассыпается.
В 1989 г. мне пришлось спорить с американскими социологами о том, где уровень жизни выше —в СССР или США. Я не сомневался, что в США: там каждая семья имеет по автомобилю, а многие — и по два! «Да, но в СССР многие имеют дачные участки, —возражали мне американцы. —Для рядового гражданина США это слишком дорого!»
Брежнев в 1965 г. начал смелую экономическую реформу, заключавшуюся в раскрепощении предприятий от множества плановых показателей, в переводе экономики на хозрасчет и самоокупаемость, в предоставлении руководителям предприятий права распоряжаться прибылью. Все это сопровождалось барабанной риторикой о необходимости совершенствовать социалистические производственные отношения, о том, что реформами КПСС ни на йоту не отступает от социализма.
На самом деле брежневские реформы, конечно же, были отступлением перед капитализмом. Только за первые пять лет реформ (1965—1970 гг.) рост промышленной продукции составил 50,3 %. Если бы свобода предприятий продержалась еще пять лет, то им пришлось бы конкурировать за потребителя. Это привело бы к процветанию более жизнеспособных и банкротству плохо организованных предприятий. Возникла бы угроза безработицы, которой при социализме не может быть.
Андрей Сахаров не любил «шоковых терапий» и всякого рода «скачков в рынок». Он мечтал о «конвергенции» —постепенном врастании социалистической экономики в мировую, поэтапном сближении социализма и капитализма. Этот процесс у нас и шел со времени реформ 1965 г. —и не только в экономике, но во всех сферах жизни. От «социалистического правотворчества масс» мы перешли к Декларации прав человека. От ревностно контролируемого общественностью аскетизма —к принципу «красиво жить не запретишь». Хрущевская борьба со «стилягами» сменилась демонстрациями мод, устраивавшимися даже в сельских клубах. Марксистско-ленинская идеология, дискредитированная еще Хрущевым, потеряла какое-либо значение. Распространялись «почвенничество», «западничество», дзен-буддизм.
Хаотическая «перестройка», вызвавшая поляризацию общественных сил и рост экстремистских настроений, создала удобную обстановку для разрушения конвергенции как процесса, интегрировавшего интересы и стремления всех общественных сил.
Кривобокие «гласность» и «демократизация» вытолкнули наверх молодежный правый экстремизм, упорно именовавший себя «левым». В этих условиях навязать России американскую программу было лишь делом техники.
Что обещал нам Джеффри Сакс? «По мере того как рыночные реформы в России станут приносить плоды... Россия начнет пользоваться благами развитых потребительской промышленности и сферы обслуживания, которые в условиях рынка являются ключевыми в повышении уровня жизни». Именно по уровню жизни, по «потребительской промышленности» и сфере обслуживания ударила «шоковая терапия». Сократились не производство электричества и стали, а производство товаров народного потребления, розничный товарооборот, закрылись предприятия бытового обслуживания.
Сакс хорошо подготовился к такому повороту событий: «Каждый раз люди верят, что конец коммунистической диктатуры и рождение демократии в мгновение ока принесут им повышение уровня жизни и экономический рост. Вместо этого на их долю выпадают новые экономические тяготы. И очень легко ошибиться в источнике этих трудностей. Не понимая, что они являются следствием краха старой системы, многие сваливают вину на рыночные реформы. Это, разумеется, приводит к тому, что реформаторы теряют свою политическую популярность, а зачастую и саму возможность продолжать необходимые реформы».
Но ведь это же обычная демагогия, рассчитанная на простаков. На первый взгляд логика Сакса безупречна: коммунизм себя изжил, а «рынок» доказал свою экономическую эффективность. То, что переход к «рынку» сопровождается резким ухудшением экономического положения, снижением жизненного уровня населения, — следствие крушения старой хозяйственной системы. Что же здесь не так? А вот что. Сакс старательно уходит от ответа на вопрос о том, ведет ли «шоковая терапия» к современной экономике или толкает страну в пропасть.
Можно ли вскочить в рынок?
2 января 1992 г. правительство Бориса Ельцина отказалось от контроля над оптовыми ценами на 90 % товаров народного потребления. В печати цель этой реформы подавалась так: выправить созданные регулированием цен ценовые диспропорции и снять с дотаций государственные предприятия.
Наделе получилось совсем иное. По сравнению с декабрем 1991 г. в декабре 1992 г. розничные цены возросли в 23 раза, а оптовые —в 62. Для отечественных реформаторов это было полной неожиданностью. Они готовились к совсем другой неприятности —к чрезмерному росту розничных цен —и потому решили, что розничные цены в государственных магазинах не должны превышать оптовые более чем на 25 %. Помню, как Егор Гайдар умолял руководителей промышленных предприятий снижать отпускные цены.
Наивность команды «Сосенки-15» равна ее некомпетентности. Ведь такой эффект можно было предвидеть заранее. Естественно, что освободившиеся от государственного регулирования сырьевые монополисты будут диктовать цены производителям товаров народного потребления, а розничные цены окажутся под прессингом падающего в условиях гиперинфляции спроса населения.
Вот что дали экономике России только два года «шоковой терапии» (табл. 3).
Таблица 3
Экономика России в 1992 и 1993 гг., % (1991 г. = 100 %)
|
1992 |
1993 |
|
|
Произведенный национальный доход |
78 |
62 |
|
Объем промышленной продукции |
81 |
65 |
|
Продукция сельского хозяйства |
92 |
75 |
|
Продовольственные товары |
82 |
73 |
|
Непродовольственные товары |
86 |
74 |
|
Выплавка стали |
87 |
83 |
|
Розничный товарооборот |
65 |
60 |
|
Экспорт |
79 |
71 |
|
Инвестиции в народное хозяйство |
60 |
56 |
Источник: материалы Верховного Совета РФ и Государственной Думы РФ.
Однако был ли таким же наивным главный экономический советник «правительства реформ» Джеффри Сакс? В 1990 г. он провел свой семимесячный польский эксперимент, где наблюдалось в точности такое же явление. Обвинить Сакса в некомпетентности нельзя. Значит, его действия диктовались трезвым расчетом. В чем он заключался? Вот в чем.
Благодаря тому что платежеспособный спрос падал, а розничные цены на многие товары народного потребления отражали прошлое состояние оптовых цен, первые ока- зались ниже последних. Торговля стала убыточной. Произошло отсечение торговли от массы покупателей. В магазинах началось массовое уничтожение скоропортящихся продуктов. Резко уменьшились заказы торговли производителям. Последние же страдали от избытка произведенных товаров и поэтому легко пошли на поставки в долг. По всем звеньям народного хозяйства стала распространяться задолженность. Уже к апрелю 1992 г. она составила 1,4 трлн руб. В результате экономические отношения между предприятиями оказались заблокированными.
Отечественные реформаторы полагали, что задолженность отдельных предприятий свидетельствует об их плохой организации. Они носились с идеей издать закон о банкротстве, согласно которому обанкротившиеся предприятия продавались частным лицам. Но зачем частным лицам платить деньги за бездоходные предприятия, брать на себя их долги? Такие предприятия никому не нужны и даром! Закон о банкротстве так и не был издан, потому что задолженность уже к лету 1992 г. стала всеобщей.
Тотальная задолженность парализовала экономическую активность. Любое производство и торговля стали убыточными. Началось катастрофическое падение промышленного производства.. За 1992 г. оно сократилось на 25 %. При этом падало прежде всего производство товаров народного потребления. Доля легкой промышленности в общем объеме производства сократилась с 16,6 до 7,7 %, а удельный вес электрической, топливной и металлургической промышленности, чья продукция была, по мнению Сакса, чрезмерной, соответственно возрос.
Из-за падения платежеспособного спроса и роста налогового бремени стали разрушаться только что возникшие в нашей стране слои мелкого и среднего предпринимательства. Закрывались кооперативы, бессмысленной стала индивидуальная трудовая деятельность. Шансы уцелеть имели только бывшие социалистические предприятия, «гиганты индустрии». Ничего себе «рыночная реформа», подрывающая саму основу экономики!
Реформа цен привела к экономическому обособлению регионов. К началу 1993 г. различия в уровне цен между городами достигли 300 %! Началось перекачивание товаров из районов с низкими ценами в районы с высокими ценами. В результате прилавки магазинов в Поволжье, черноземных областях и на Урале, не успев наполниться, стали пустеть. На первый взгляд, здесь должны были проявить себя «рыночные» законы — перекачивание товаров должно нивелировать цены. На самом деле различия в уровне цен определялись региональными различиями в падении уровня жизни, которые находились в зависимости от состояния региональной экономики. Руководители областей, не имея возможности прекратить утечку товаров иным способом, стали вводить запрет на вывоз жизненно важных товаров. Границы областей ощетинились региональными таможнями. Единство российского рынка оказалось под угрозой.
Если Сакс не предвидел этого заранее, то грош цена ему как экономисту.
Одновременно с «либерализацией» цен проводилась так называемая жесткая финансовая политика. В январе денежная эмиссия составила 25,8 % от декабрьского уровня, в феврале — 34,5 %, в марте — 59,7 %. В печати эта мера объяснялась необходимостью подавить инфляцию, оздоровить кредит и заставить предприятия рациональнее распоряжаться деньгами.
На самом деле сжатие эмиссии привело к потере государством денежных рычагов регулирования экономики, резкому снижению инвестиций в народное хозяйство, кредитному зажиму, росту дефицита общегосударственного и местных бюджетов, к снижению материальной помощи наиболее уязвимым слоям населения.
Жесткую финансовую политик}? Джеффри Сакс осуществлял в Латинской Америке и Польше. Поэтом}? он должен был знать все ее позитивные и негативные моменты. А значит, нельзя сомневаться в том, что сжатие эмиссии на раннем этапе реформы имело дейетви- тельной целью усилить разрушительные тенденции в экономике, сделать правительство более зависимым от западных кредитов и вынудить государство увеличить тяжесть налогового обложения предприятий и предпринимателей, довершая их крушение.
Кроме отпуска цен и сжатия эмиссии «правительство реформ» проводило политику валютного регулирования. Официальное объяснение необходимости валютного регулирования —предотвратить обесценение рубля и оказать обратное сдерживающее влияние на гиперинфляцию. При этом в начале реформы правительство хотело повысить курс рубля до 20 руб. за доллар, а затем —до 80 руб. за доллар.
Казалось бы, государство должно было взять определение курса рубля в свои руки. Однако оно почему-то предпочло передать его валютным биржам, где спрос на доллары существенно превышал их предложение. Поэтому удержать курс рубля можно было только валютными интервенциями, что в условиях галопирующей инфляции и нехватки денег в обращении было непозволительной роскошью.
За 12 месяцев 1992 г. государство продало банкам «по дешевке» более 1 млрд дол., что составило 37 % от всего валютного оборота. Сдержать же рубль от обесценения так и не удалось. В апреле 1993 г. курс рубля уже был равен 740 руб. за доллар.
Для чего в действительности понадобилась эта чрезвычайно дорогостоящая политика? Вовсе не для подавления инфляции. Все дело во внешней торговле. Если курс рубля искусственно удерживается от падения, то экспорт становится невыгодным, а импорт, напротив, выгодным. В результате отечественная промышленность оказывается отрезанной не только от внутреннего, но и от внешнего рынка, а магазины наполняются относительно дешевыми зарубежными товарами. Одновременно баланс внешней торговли становится отрицательным, что увеличивает внешнеэкономический долг страны.
Картина достаточно ясная. Проводившиеся по рецептам Сакса «рыночные реформы» отнюдь не приближали наш}? экономику к мировому рынку. Напротив, они привели к снижению экспорта.
Сакс утверждал, что «среди всех промышленных стран мира Россия является одним из самых малых экспортеров». Правда, для этого Саксу пришлось совершить тройную статистическую фальсификацию. Во-первых, он привел данные за 1993 г., т. е. не до его «шоковой терапии», а после нее, когда из-за политики валютного регулирования, 35 % падения промышленного производства и введенных западными странами квот объем нашего экспорта резко уменьшился. Поэтому цифры Сакса характеризуют только результаты его реформ, а не состояние нашей дореформенной внешней торговли.
Во-вторых, Сакс привел не валовые размеры экспорта, а в расчете на душ}? населения. Конечно, среднедушевые показатели тоже в известном смысле информативны. Только они не позволяют определить, какая страна является экспортным гигантом, а какая — карликом. Это видно и из таблицы Джеффри Сакса, где США занимают скромное седьмое место, пропустив вперед себя Южную Корею, Японию, Италию, Англию, Францию и Германию (на самом деле по среднедушевому внешнеторговому обороту США должны были довольствоваться еще более скромным местом, если бы Сакс привел также данные по Сингапуру, Гонконг}?, Бельгии, Нидерландам, Швейцарии, Люксембург}? и Лихтенштейну).
В-третьих, Сакс использовал несопоставимые данные —по западным странам цифры заимствованы им из «World Development Report» за 1993 г., где учтен весь объем внешней торговли, а по России —из «European Economic Survey» за 1992—1993 гг., где учтена наша торговля только с европейскими странами. Благодаря этому Сакс сбросил со счета от 65 до 70 % внешнеторгового оборота России (более точная оценка затруднена из-за недоучета экспорта оборонительных предприятий, вывоза товаров через Украину и Казахстан, а также нашей челночной торговли с Китаем, Турцией, Японией и Монголией).
Таким образом, теория модернизации сыграла в истории российских реформ весьма негативную роль. Тем не менее в отечественных социальных науках и системе образования не прекращаются попытки насадить ее в качестве полуофициальной доктрины. Это связано с тем, что современная Россия инкорпорируется в мировую экономическую систему в качестве страны-периферии, сырьевой базы ведущих держав, что является составной частью осуществляющегося в настоящее время в мире проекта глобализации.
Анализ того, каким образом теория модернизации смогла утвердиться в общественном сознании России, приводит к весьма неутешительным выводам. В нашем обществе отсутствует механизм, который производил бы отбор наиболее перспективных и соответствующих национальным интересам социальных теорий и проектов экономических реформ. Казалось бы, печальная практика социального экспериментирования должна была создать такой механизм. Но оказалось, что социальные слои, чьи интересы были серьезно нарушены реформами начала 1990-х годов, не оказывают никакого воздействия на тех, кто принимает политические решения.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ В ИСТОРИИ И ТЕОРИИ (от торговых кризисов к экономическим циклам)
Крупнейшим недостатком современных экономических теорий является их отрыв от экономической истории. Главным следствием такого отрыва служит потеря связи теории с реальной экономикой. Дело в том, что современные экономические теории направлены на выявление взаимосвязей универсальных понятий и категорий с целью разработки рецептов оптимального поведения экономических субъектов независимо от времени и места действия. А реальная экономика —это постоянно эволюционирующая система. Содержание понятий и категорий, характер взаимосвязей между ними со временем существенно меняются [1].
Все сказанное в полной мере относится к области изучения экономических кризисов. Несмотря на то что за последние 300 лет характер, содержание и причины экономических кризисов претерпели большие изменения, в теоретической литературе господствует универсалистский подход к их изучению.
Правда, Густав Кассель в 1918 г. заявил, что теоретические исследования экономических кризисов, «которые призваны иметь значимость для всей Западной Европы, не могут, в общем, простираться в прошлое дальше начала [18]70-х годов». Только в последней трети XIX в., говорил он, старые экономические уклады были большей частью заменены современной экономикой со свойственным ей широким использованием основного капитала в промышленности и на транспорте. «После [18]70-х годов некоторые из более старых форм кризисов были, по-видимому, в значительной степени преодолены, и вместо них возникла современная форма цикла, сводящегося к колебаниям производства элементов основного капитала, со всеми специфическими особенностями капиталистической экономики» [2].
-
[1] Подробнее см.: Бокарев Ю. П. Экономическая история и экономическая теория. Препринт научного доклада / Институт экономики РАН. 2007.
-
[2] Cassel G. Theory of Social Economy. Harcourt, Brace and Co. 1923. P. 537—538. Английский перевод первого немецкого издания 1918 г.
Н ИНФОРМАЦИОННО
Список литературы Теория модернизации и экономические реформы в России
- http://www.inop.ru/files/calhoun.doc
- Parsons T. The Social System. Glencoe, 1964 (reprint from ed. 1951).
- Lerner D. The Passing of Traditional Society. Glencoe, 1958;
- Smelser N. J. Social Change in the Industrial Revolution. L., 1959;
- Hagen E. On the Theory of Social Change. Homewood, 1962;
- Levy M. J. Modernization and the Structure of Societies. Princeton, 1966;
- Apter D. Some Conceptual Approaches to the Study of Modernization. Englewood Cliffs, 1968.
- Eisenstadt S. N. Breakdowns of modernization//Goode W. J. (ed.). The Dynamics of Modern Society. N. Y., 1964. P. 434-448.
- http://polbu.ru/sztompka_sociology
- Сахаров А. Д. Тревога и надежда. М., 1990.
- Eisenstadt S. N. Modernization: Protest and Change. Englewood Cliffs, 1966.
- Huntington S. P. The change to change: modernization, development and polities//Black C. E. (ed.) Comparative Modernization. N. Y., 1976.
- Gusfield J. R. Tradition and modernity: misplaced polarities in the study of social change//American Journal of Sociology. 72 (January 1966).
- Tipps D. С. Modernization theory and the comparative study of Societies: a critical perspective Black C. E. (ed.) Comparative Modernization.
- Durkheim E. Selected Writings/Еd. A. Giddens. Cambridge, 1972.
- Smelser N. J. Processes of social change//Smelser N. J. (ed.). Sociology: An Introduction. N. Y., 1973.
- Джеффри С. Рыночная экономика и Россия. М., 1995.
- Побережников И. В. Модернизационная перспектива: теоретико-методологические и дисциплинарные подходы//Третьи Уральские историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 1999. С. 16-25.
- http://www.hse.ru/ic2/materials_2/yasin.htm
- СССР и зарубежные страны. 1988. Статистический сборник. М., 1990.