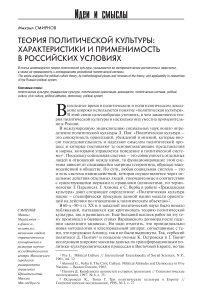Теория политической культуры: характеристики и применимость в российских условиях
Автор: Смирнов Михаил Михайлович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 1, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется теория политической культуры, указываются ее методологические достоинства и недостатки, а так же ее применимость к исследованиям российской политической системы.
Политическая культура, гражданская культура, политические ориентации, демократия, политическая система
Короткий адрес: https://sciup.org/170165566
IDR: 170165566
Текст научной статьи Теория политической культуры: характеристики и применимость в российских условиях
В последнее время в политическом и политологическом лексиконе широко используется понятие «политическая культура». В этой связи целесообразно уточнить, в чем заключается теория политической культуры и насколько она уместна применительно к Р-оссии.
В международную энциклопедию социальных наук вошло определение политической культуры Л. Пая: «Политическая культура – это совокупность ориентаций, убеждений и мнений, которые вносят последовательность и наделяют смыслом политический процесс и которые поставляют те основополагающие представления и нормы, которыми управляется поведение в политической систе-ме»1. Поскольку социальная система – это совокупность отдельных людей и отношений между ними, то функционирование этой системы зависит от сложившейся матрицы (стереотипа, образца) взаимодействий в обществе. По сути, любая социальная система – это и есть система взаимодействий, которая осуществляется через отдельные действия отдельных людей, упорядоченные в соответствии с существующими нормами и правилами (ценностями, по терминологии Т. Парсонса). Г. А-лмонд и С. Верба в работе «Гражданская культура» дают следующее определение: «Политическая культура нации – специфически присущие данной нации модели ориентаций на действия по отношению к политическим объектам»2.
В 60-х–80-х гг. XX в. в западной политической науке было немало публикаций, пытавшихся как критиковать теорию политической культуры, так и развивать ее. Е-ще больший всплеск работ на эту тему произошел в бывших станах Варшавского договора после падения «железного занавеса». Но надо отметить, что принципиально новая методология и категориальный аппарат, сопоставимые с теми, что предложил А-лмонд, так и не были выдвинуты. Так, сербский политолог Д. Пантич3 и польские ученые К. Островски и Г. Тюни4 исследовали широкие массивы данных по трансформационным политико-культурологическим процессам в Восточной Е-вропе, но так и не выдвинули конкурентоспособных теоретических моделей политических культур. Отечественные исследования на эту тему практически отсутствовали до конца 80-х (поскольку в рамки марксистско-ленинской доктрины теория политической культуры не вписывалась), но зато хлынули щедрым потоком после перестройки. Как отмечают специалисты, отечественным разработкам теории политической культуры присущ определенный дуализм. Заключается он в том, что, во-первых, постоянно ощущается сильное воздействие классической структурно-функциональной школы с ее традициями акцента на гражданской политической культуре. А-во-вторых, отечественная постперестроечная политическая эмпирия вынуждала российских авторов уточнять и перекраивать западные схемы применительно к отечественным реалиям1. Конечно, исследования таких отечественных политологов, как Ю.С. Пивоваров2, Э.Я. Б-аталов3 и др., внесли большой вклад в развитие классической системной концепции политической культуры и в политико-культурологическую интерпретацию событий российской политической истории и политической мысли... Но выдвинуть конкурентоспособную новую теорию политической культуры отечественная политическая мысль пока так и не смогла. Вот почему представляется целесообразным частичное возвращение к первоосновам методологии и категориального аппарата классического системного структурного функционализма.
Нам видится весьма важным то, что А-лмонд и Верба отмечают наличие специфических общепринятых поведенческих ориентаций, присущих именно политической сфере социальной жизни. Это отличает теорию политической культуры как от бихевиоризма (тем, что фокус исследования смещается от индивидуального поведения к социальному), так и от культурологических теорий (тем, что изучается политическая сфера культурной специфики социума в терминах сравнительного политического анализа). Такое понимание политической культуры помогает избежать чрезмерного культурологического детерминизма в объяснении политических процессов. В тоже время это позволяет сформулировать гипотезы об отношении между различными компонентами культуры и проверить эти гипотезы эмпирически. Используя концепцию политической социализации, важно пойти дальше простого принятия подхода психокультурной школы к общим моделям развития детей и политическим установкам взрослых членов общества – необходимо соотнести специфические взрослые политические установки и поведенческие предрасположенности детей к восприятию опыта политической социализации.
Итак, главное, что определяет качество политической культуры социума, – это распределение образцов политических ориентаций относительно политических объектов. Другими словами, нужно определить и обозначить модели политической ориентации и классы политических объектов. В этой связи А-лмонд и Верба, в соответствии с подходом Парсонса, выделяют три типа ориентаций:
-
1) «когнитивные ориентации», т.е. знания и веру относительно политической системы, ее ролей и обязанностей относительно этих ролей – то, что система берет из окружающей среды и что отдает (что «на входе» и что «на выходе» системы);
-
2) «аффективные ориентации», или чувства относительно политической системы, ее ролей, ее работы и вовлеченных в нее людей;
-
3) «оценочные ориентации» – суждения и мнения о политических объектах, которые обычно представляют из себя комбинацию ценностных стандартов и критериев, информации и чувств4.
Методологическая ценность этого классического подхода (в отличие от более сложных и запутанных классификаций российской и зарубежной политологической мысли 1980–90-х гг.) заключается в том, что он позволяет систематизировать политические ориентации индивидов посредством ответов на четыре следующих довольно простых и легко формализуемых вопроса.
-
1. Каким знанием индивид обладает о своей нации и о политической системе
-
2. Ч-то индивид знает о структуре и ролях разнообразных политических элит и о политических предложениях, инициативах, которые вовлечены в «восходящий» поток формирования политики?
-
3. Ч-то индивид знает о потоке политического принуждения, о структурах, индивидах и решениях, вовлеченных в этот процесс?
-
4. Как индивид осознает себя в качестве члена политической системы? Ч-то он знает о своих правах, возможностях, обязанностях и о доступе к влиянию на систему?
вообще, об ее истории, размере, расположении, силе, «конституциональных» характеристиках и т.д.? Каковы его чувства относительно этих системных характеристик?
Данные, позволяющие дать ответы на эти вопросы, содержатся в информационном потоке общества (точнее, в его содержательной части), который сейчас принято называть политическим контентом1. Исследования политического контента на основе новейших информационно-коммуникационных технологий позволяют осуществить в некотором смысле новое прочтение и новую интерпретацию классической теории политической культуры. Действительно, текстовая и нетекстовая части контента позволяют отследить, каким знанием обладает среднестатистический член данного общества о своем социуме, его политической системе, истории и т.д. Именно в контенте с трудом улавливаемый и в общем нематериальный феномен политической культуры оставляет вполне фиксируемый материальный «след».
На практике в большинстве современных демократических стран встречается смешанная культура – ее называют культурой участия (civic culture). В гражданской культуре политические ориентации участия сочетаются с патриархальными и подданническими политическими ориентациями, но при этом не отрицают их. Необходимо отметить важную деталь, имеющую сущностное значение и для современных демократических политических систем: для стабильной и динамично развивающейся системы не обязательно, чтобы для индивидов было типично активное участие в политике. Непомерная активность несет в себе что-то деструктив- ное (в этой связи вспоминаются массовые политические выступления весной, летом и осенью 1917 г. в нашей стране и всплеск политического участия в 1988–91 гг.). Поэтому культура участия, смешанная с другими политическими культурами, представляется нам более адекватной для стабильно развивающейся политической системы.
Б-олее того, для Р-оссии и для русской (российской) диаспоры в мире такой тип политической культуры (гражданская культура) более приемлем и органичен, поскольку конструктивно включает в себя то специфическое для нашей нации отношение (ориентации) к политике и власти, за которые русских обычно и критикуют как за якобы «природную неде-мократичность» и которые можно было бы смело назвать элементами патриархальной и подданнической политических культур. Традициональные политические ориентации имеют тенденцию упрощать обязательства индивида по отношению к политике и делать эти обязательства мягче. По нашему мнению, подданнические и патриархальные ориентации сдерживают ориентации участия. Такие установки благоприятны для ориентаций участия в политической системе и играют важную роль в гражданской культуре.
В целом современная российская политическая культура почти не подпадает под классическую классификацию (впрочем, как и под более современные), хотя методологию этой классификации применить в российских условиях вполне возможно. Политическая культура Р-оссии, прежде всего, смешанная. И не только из-за присутствия в ней всех трех классических «чистых» алмондовских типов политических культур (патриархальной, подданнической и активистской), но и вследствие совмещения культур советского и постсоветского периода. Политическая культура советского периода характеризуется подданническими когнитивными и аффективными ориентациями относительно политической системы. Именно эти ориентации, сохраняясь в постсоветский период, сформировали «социальный заказ» на возрастание роли государства в последнее десятилетие. С другой стороны, «ельцинский» период привнес в российскую политическую культуру установки на политическое участие. Эти установки в большей степени привились в когнитив- ных и оценочных ориентациях. При этом аффективные ориентации продолжали в значительной степени сохранять и патриархальные установки. Отмечая смешанный характер современной российской политической культуры, необходимо видеть не только ее «полюса» (подданнические и патриархальные ориентации, с одной стороны, и установки политического участия – с другой), но и сложное переплетение и взаимосвязь этих ориентаций вследствие соединения разных исторических эпох и этноконфессиональных традиций и ценностей. Эта мультикультурная и «мультиэпохальная» специфика придает, безусловно, особую сложность современной российской политической культуре. Поверхностное отношение к этому вопросу привело к отторжению демократических реформ 90-х гг. значительной частью (если не сказать – большинством) российского населения.
Поддержка более традиционных установок и их слияние с ориентациями участия ведет к сбалансированной политической культуре, в которой политическая активность, вовлеченность и рациональность существуют, но при этом уравновешиваются соблюдением традиций и приверженностью общинным ценностям. По нашему мнению, как раз таким путем возможно снять противоречие между разными «полюсами» в осмыслении проблем развития демократии на основе российской политической культуры. А-нализ же политического контента современного российского общества позволяет говорить о том, что этих полюсов несколько и они обозначают, как минимум, две семантические шкалы. Так, по критерию отношения к либерализации можно составить шкалу, полюсами которой будут «западники» и «почвенники» («неославянофилы»). Другую шкалу можно составить, например, по критерию отношения к роли государства в обществе, и здесь полюсами будут «либерализм» и «тоталитаризм», а между ними находятся авторитарные, этатистские, суверенно-демократические и др. взгляды и ориентации.
Выдвинутая на последнем (2009 г.) съезде партии «Е-диная Р-оссия» новая партийная идеология российского консерватизма, при всей ее теоретической «сырости», перекликается с идеями гражданской культуры. И это еще раз напоминает, что теория политической культуры может служить инструментарием прикладных социально-политических исследований по ряду весьма перспективных для Р-оссии направлений. Например, применительно к разработке национальной российской идеологии постулаты теории политической культуры (при определенной модернизации и увязке с исследовательскими инструментариями эпохи Интернета), совершенно органично вписываются в неоконсервативную концепцию (российский консерватизм), дополняют ее и делают осмысленной.
В заключение хотелось бы сделать некоторые выводы.
-
1. Несмотря н а обилие публикаций и критики по теме политической культуры в последние десятилетия, теоретико-методологические подходы к феномену политической культуры и категориальный аппарат, сформулированные классиками системного структурного функционализма, остаются актуальными и эффективными и по сей день.
-
2. Исследования политич е ского контента на основе новейших информационно-коммуникационных технологий позволяют осуществить в некотором смысле новое прочтение и новую интерпретацию классической теории политической культуры.
-
3. Теория гражданской политической культуры может оказаться весьма актуальной и пригодной для исследования российских политических процессов.