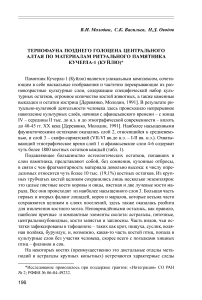Териофауна позднего голоцена Центрального Алтая по материалам ритуального памятника Кучерла-1 (Куйлю)
Автор: Молодин В.И., Васильев С.К., Оводов Н.Д.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XIV, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521432
IDR: 14521432
Текст статьи Териофауна позднего голоцена Центрального Алтая по материалам ритуального памятника Кучерла-1 (Куйлю)
Памятник Кучерла-1 (Куйлю) является уникальным комплексом, сочетающим в себе наскальные изображения и частично перекрывающие их разновозрастные культурные слои, содержащие специфический набор культурных остатков, огромное количество костей животных, а также каменные выкладки и остатки кострищ [Деревянко, Молодин, 1991]. В результате ритуально-культовой деятельности человека здесь происходило непрерывное накопление культурных слоёв, начиная с афанасьевского времени – с конца IV – середины II тыс. до н.э. и до этнографической современности – вплоть до 40-45 гг. XX века [Деревянко, Молодин, 1991]. Наиболее насыщенными фаунистическими остатками оказались слой 2, относящийся к средневековью, и слой 3 – скифо-сарматский (VII-VI вв.до н.э. – I-II вв. н.э.). Охватывающий этнографическое время слой 1 и афанасьевские слои 4-6 содержат чуть более 1800 костных остатков каждый (табл. 1).
Подавляющее большинство остеологических остатков, попавших в слои памятника, представляют собой, без сомнения, кухонные отбросы, в связи с чем фрагментарность материала довольно высока: к числу определимых относится чуть более 10 тыс. (19,1%) костных остатков. Из крупных трубчатых костей целиком сохранились лишь несколько экземпляров: это целые пястные кости коровы и овцы, пястная и две лучевые кости марала. Все они происходят из наиболее насыщенного слоя 3. Большая часть первых и вторых фаланг лошадей, коров и маралов, которые весьма часто сохраняются целиком в слоях поселений, здесь также оказалась разбита для извлечения костного мозга. Неповреждёнными остались, как правило, наиболее прочные и компактные элементы скелета: астрагалы, пяточные, центральнокубовидные, кости запястья и заплюсны. Часть видов, чьи остатки зафиксированы в тафоценозе – таких как крот, пищуха, суслик, водяная полёвка, бурундук, и, возможно, какая-то часть костей птиц, попала в культурные слои без участия человека, скорее всего с погадками хищных птиц – филинов и сов.
На некоторых костях (преимущественно это дистальные отделы мета-подий и астрагалы крупных копытных) встречаются характерные следы утилизации, в виде их затёртости до субовальной формы, что наблюдается и в голоценовых слоях других памятников, таких как Денисова и Каминная пещеры [Васильев, Гребнев, 1994]. Присутствуют все элементы скелета крупных млекопитающих, включая обломки черепа, нижних челюстей, костей конечностей и многочисленные изолированные зубы. Остатки осевого посткраниального скелета – позвонки и тазовые кости гораздо менее представлены в тафоценозе. Объясняется это, вероятно, тем, что к месту пиршества охотниками доставлялись, прежде всего, наиболее ценные в пищевом отношении части туш таких крупных копытных, как маралы. Другое объяснение может заключаться в том, что менее габаритные и компактные позвонки и тазовые кости в силу их конфигурации и размеров, имели гораздо меньше шансов попасть («втоптаться») в культурный слой, и так или иначе выпадали из слоя - растаскивались хищниками, отбрасывались за пределы площадки самим человеком. Следов многочисленных погрызов костей собаками, что нередко наблюдается в слоях поселенческих комплексов, почти не зафиксировано: встречаются лишь единичные экземпляры с подобными повреждениями. Весьма вероятно, что состав мясной пищи от определённых частей туш был обусловлен спецификой ритуальных действий, или правилами самих мистерий.
Соотношение видов диких (охотничье-промысловых) и домашних животных по числу костных остатков по слоям 1-3 изменяется сравнительно мало. Так, в слое 1 количество костей домашних животных составляет 48,8%, слое 2 – 53,1%, слое 3 - 56,5%. В афанасьевских слоях 4-6 доля костей домашних животных заметно сокращается – до 34,5%. В целом по слоям остатки домашних животных незначительно преобладают (54%) над охотничье-промысловыми видами.
Лошадь. Доля её костей от числа остатков домашних животных составляет для 1 слоя 20,4%, существенно возрастает – до 34,5% - в средневековом слое 2, вновь заметно уменьшается в слое 3 – 22,9%, и несколько увеличивается в афанасьевских 4-6 слоях– до 24,9%.
Корова. Удельный вес остатков крупного рогатого скота возрастает от 1 слоя к 3-му (5,8; 7,8; 12,8%), сокращаясь в афанасьевское время до 8,2%.
Овцы-козы. Остатки мелкого рогатого скота составляют соответственно 73,2; 56,6; 61,9; 62,3% в слоях памятника, заметно преобладая лишь в слое 1.
Верблюд. Фрагмент нижней челюсти с М3 обнаружен в слое 1, изолированный зуб нижней челюсти – в слое 2. Указанные остатки, без сомнения, принадлежат домашней форме, и могут указывать на существование связей со Средней или Центральной Азией в этнографическое время и средневековье.
Собака. Остатки этого вида немногочисленны. Два изолированных зуба найдены в слое 2. В слое 3 обнаружено 12 костей (0,4% от числа домашних животных), в том числе целый осевой череп, 3 ветви нижней челюсти, 5 фрагментов костей посткраниального скелета минимум от 2 особей.
Свинья. Дикая и домашняя форма хорошо различаются по особенностям строения черепа. Разделение кабана и домашней свиньи на основе костей посткраниального скелета возможно лишь исходя из их размеров [Громова, 1948]. Все костные остатки из Кучерлы, принадлежащие взрослым животным по своим размерам оказались сходными с домашней формой. Представлены фрагменты всех частей краниального и посткраниального скелета. Доля остатков свиньи постепенно возрастает (0,3; 0,9; 2,0; 4,6%) к слоям афанасьевского времени.
Человек. Обломок плюсневой кости отмечен в слое 3.
Бобр. Фрагмент верхнего отдела берцовой кости найден в слое 3. В верхнем плейстоцене-голоцене бобр на Алтае был распространён практически повсеместно. Его остатки, в частности отмечены в голоценовых слоях Денисовой пещеры [Васильев, Гребнев, 1994]. Бобр был окончательно истреблён на Алтае в течении XIX века [Собанский, 1988].
Остатки волка встречаются вдвое чаще, чем собаки. Представлены ветви нижней челюсти, обломки черепа и костей посткраниального скелета, изолированные зубы.
Предположительно красному волку принадлежит изолированный клык из слоя 3.
Кости лисицы обнаружены в слоях 1 (астрагал с просверленным отверстием) и 2-м – правая и левая ветви нижней челюсти, обломок верхней челюсти, лопатки, 2 грудных и 1 шейный позвонки.
Обломки верхней челюсти и метаподии рыси отмечены в слое 2. В 3 слое обнаружено 13 костей, включая обломки верхней, нижней челюсти и посткраниального скелета.
Остатки соболя отмечены во всех слоях памятника. Из 45 зарегистрированных костей 20 составляют ветви нижней челюсти, принадлежащие как минимум 12 особям.
Кости росомахи (слои 3 и 4) включают по 2 обломка черепа, верхней челюсти, 4 ветви нижней челюсти, изолированные зубы, кости посткраниального скелета, большинство из которых сохранилось целиком.
От барсука найден дистальный отдел плечевой кости (слой 2), неполные нижняя челюсть и плечевая кость (слой 3).
Выдра представлена единственной лучевой костью из афанасьевских слоёв 4-6.
Кости бурого медведя присутствуют во всех слоях памятника. Среди остатков охотничье-промысловых видов медведь занимает 4 место после марала, косули и сибирского горного козла. Отмечены все элементы скелета – обломки черепа, нижних челюстей, изолированные зубы, фрагменты посткраниума от взрослых и молодых особей.
Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков из ритуального памятника Кучерла-1
|
Таксоны |
сл. 1 |
сл. 2 |
сл.3 |
сл. 4-6 |
б/сл. |
всего |
|
Человек |
- |
- |
1/1* |
- |
- |
1/1 |
|
Собака |
- |
2/1 |
12/2 |
- |
- |
14/3 |
|
Свинья |
1/1 |
14/2 |
60/7 |
13/2 |
- |
88/12 |
|
Лошадь |
77/3 |
560/8 |
690/13 |
70/3 |
35/2 |
1432/29 |
|
Корова |
22/2 |
127/7 |
384/22 |
23/2 |
17/1 |
573/34 |
|
Овца-коза |
276/34 |
917/62 |
1861/198 |
175/11 |
6/1 |
3236/305 |
|
Верблюд |
1/1 |
1/1 |
- |
- |
- |
2/2 |
|
Крот |
- |
3/2 |
3/1 |
1/1 |
- |
7/4 |
|
Заяц-беляк |
7/1 |
7/3 |
15/4 |
2/1 |
- |
31/9 |
|
Пищуха |
- |
- |
7/7 |
3/2 |
- |
10/9 |
|
Белка-летяга |
- |
- |
1/1 |
- |
- |
1/1 |
|
Белка |
- |
7/2 |
- |
2/1 |
- |
9/3 |
|
Бурундук |
- |
- |
- |
2/1 |
- |
2/1 |
|
Суслик |
- |
- |
2/1 |
- |
- |
2/1 |
|
Сурок |
1/1 |
6/2 |
21/3 |
2/1 |
- |
30/7 |
|
Бобр |
- |
- |
1/1 |
- |
- |
1/1 |
|
Полёвки |
- |
3/3 |
1/1 |
2/2 |
- |
6/6 |
|
Водяная |
||||||
|
полёвка |
- |
15/6 |
37/17 |
9/6 |
9/2 |
70/31 |
|
Волк |
- |
6/1 |
23/2 |
5/1 |
1/1 |
35/4 |
|
Лисица |
1/1 |
8/1 |
- |
- |
- |
9/2 |
|
Красный волк |
- |
- |
1/1 |
- |
- |
1/1 |
|
Медведь |
5/1 |
22/1 |
66/6 |
11/1 |
1/1 |
105/9 |
|
Соболь |
1/1 |
11/4 |
26/5 |
5/2 |
2/1 |
45/12 |
|
Росомаха |
- |
- |
15/2 |
4/2 |
2/1 |
21/4 |
|
Барсук |
- |
1/1 |
2/1 |
- |
- |
3/2 |
|
Выдра |
- |
- |
- |
1/1 |
- |
1/1 |
|
Рысь |
- |
1/1 |
13/2 |
- |
- |
14/3 |
|
Кабарга |
7/1 |
28/2 |
34/6 |
16/4 |
2/1 |
87/13 |
|
Марал |
300/14 |
915/32 |
1511/30 |
171/5 |
90/3 |
2987/84 |
|
Косуля |
61/4 |
386/22 |
444/32 |
48/4 |
12/1 |
951/46 |
|
Горный козёл |
12/2 |
26/3 |
139/11 |
30/3 |
- |
207/19 |
|
Архар |
1/1 |
8/2 |
8/1 |
- |
- |
17/4 |
|
Рыбы |
- |
2 |
- |
1 |
- |
3 |
|
Птицы |
- |
14 |
18 |
5 |
- |
37 |
|
Неопределимые |
||||||
|
обломки |
1030 |
15354 |
24821 |
1234 |
199 |
42638 |
|
Всего костных |
||||||
|
остатков |
1803 |
18444 |
30217 |
1835 |
376 |
52675 |
Остатки кабарги – этого типичного горно-таёжного вида, обнаружены во всех слоях, составляя в среднем около 2% от числа зверей охотничье-промысловой группы.
Среди диких млекопитающих по численности остатков косуля уступает только маралу, составляя 23,6%. Промеры нижней челюсти и костей посткраниального скелета косули из Кучерлы уже приводились в одной из статей [Васильев, Гребнев, 1994]. Размеры костей (и тела соответственно) позднеголоценовых и современных косуль, как показало сравнение, практически не изменились.
Марал. Его остатки составляют абсолютное большинство (67,2%) среди охотничьей добычи древнего населения края. Промеры костей скелета Cervus elaphus sibiricus из Кучерлы также уже были опубликованы ранее (Васильев, Гребнев, 1994; Васильев, 2005). Как показали материалы Ку-черлы, в течение позднего голоцена происходило направленное сокращение размеров тела марала, достигшее своего минимума у его современного (паркового) потомка.
По числу остатков сибирский горный козёл более чем в 10 раз превосходит архара. Подобное соотношение объясняется, очевидно, преобладанием в окрестностях памятника скальных биотопов, наиболее подходящих для обитания Capra sibirica. Судя по набору костных остатков, туши горных козлов и архаров доставлялись целиком, однако массивные черепа с рогами почти не имели шансов попасть в культурный слой; от них сохранились лишь более-менее крупные фрагменты роговых стержней, обломки верхней, нижней челюсти и изолированные зубы.
Видовой состав и относительное обилие остатков диких млекопитающих показывают, что на протяжении последних 3-4 тыс. лет состав териофауны центральной части Горного Алтая изменился сравнительно мало. Отмечено присутствие тех же видов горно-таёжных млекопитающих, что и в современную эпоху, за исключением некоторых, исчезнувших здесь под воздействием антропогенного фактора (бобр, архар). Труднее объяснить полное отсутствие остатков лося, нередко встречаемого ныне в районе Кучерлы. Единичные остатки лося зафиксированы также и в голоценовых отложениях Денисовой пещеры [Васильев, Гребнев, 1994]. Между тем, по мнению Г.Г. Собанского [1988], 200-250 лет назад лоси в изобилии водились практически по всей территории Алтая. Возможно, отсутствие лося в Центральном Алтае в конце среднего-позднем голоцене связано с некоторой аридизацией климата и остепнением ландшафтов, либо с конкурентным вытеснением другими массовыми видами крупных копытных – прежде всего благородным оленем.
Выявленный на памятнике фаунистический набор в значительной степени совпадает с видовым составом изображений животных, зафиксированном на памятнике [Молодин, Ефремова, 2008]. Вместе с тем, отмеченное по костным остаткам таксономическое разнообразие свидетельствует о более широком спектре животных, остатки которых использовались че- 200
ловеком в обрядовой практике, чем это представлено на скальных изображениях, что следует учитывать при попытке реконструкций ритуальных действий. Кроме того, обилие обломков черепов, рогов и зубов животных, равно как и орнаментированных астрагалов [Молодин, Ефремова, 1998], лишний раз подчёркивает не поселенческий характер памятника, где подобные остатки встречаются, в процентном отношении, в значительно меньшем количестве по отношению ко всему комплексу представленных в культурном слое костей.