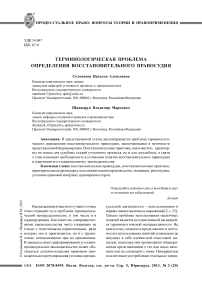Терминологическая проблема определения восстановительного правосудия
Автор: Соловьева Наталья Алексеевна, Шинкарук Владимир Маркович
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Процессуальное право: вопросы теории и правоприменения
Статья в выпуске: 3 (20), 2013 года.
Бесплатный доступ
В представленной статье рассматривается проблема терминологического определения восстановительного правосудия, заключающаяся в неточности представленной формулировки. Восстановительные практики, как известно, характерны не только для судебных стадий уголовного процесса, но и для досудебных, в связи с этим возникает необходимость в уточнении понятия восстановительного правосудия и адаптации его к национальному законодательству.
Восстановительное правосудие, восстановительные практики, примирительные процедуры, восстановительное производство, медиация, реституция, уголовно-правовой конфликт, примирение сторон
Короткий адрес: https://sciup.org/14973551
IDR: 14973551 | УДК: 34.047
Текст научной статьи Терминологическая проблема определения восстановительного правосудия
Высказывание известного ученого очень точно отражает суть проблемы терминологической неопределенности, в том числе и в юриспруденции. Как известно, совершенствование законодательства часто сопряжено не только с позитивными перспективами, ради которых оно и производится, но и с трудностями, возникающими при их применении. В процессе своего реформирования уголовнопроцессуальное законодательство может обогащаться дополнительными приемами законодательного регулирования уголовно-процес-
Определяйте значение слов, и вы избавите свет от половины его заблуждений.
Декарт суальной деятельности – использованием в нормах закона оценочных выражений [2, с. 25]. Однако проблема использования оценочных понятий является не единственной касающейся терминологической неопределенности. На наш взгляд, опасность представляют и неточности в использовании понятий, изначально не несущих в себе адекватной смысловой нагрузки, поскольку они противоречат общепринятым представлениям о тех или иных явлениях или не совпадают с ними. Некорректное или неточное употребление отдельных терми- нов может привести к трудностям как в самой законодательной технике, так и в правоприменительной практике.
Подобную терминологическую неопределенность можно наблюдать при изучении соответствующей научной литературы по восстановительным практикам. В большинстве источников речь идет о восстановительном правосудии. Вместе с тем не вызывает сомнений, что правосудие в традиционном понимании – это непосредственное рассмотрение дел судом, то есть судебное производство. Как же тогда быть с теми формами восстановительных практик, которые применяются в досудебном производстве, и которые, на наш взгляд, являются сутью данного способа коммуникативного поворота в современном развитии мирового, и в том числе отечественного законодательства и правоприменительной практики?
Российское уголовно-процессуальное законодательство дифференцирует все судопроизводство на досудебное и судебное, и правосудие является оставляющей судебного производства. Возможно, многие проблемы, связанные с перенесением восстановительных практик на отечественную почву, обусловлены расширительным толкованием правосудия. А истоки такого понимания лежат в истории становления данного подхода, который начал довольно интенсивно развиваться в разных странах мира примерно с 70-х годов XX века. Множество разнообразных течений, концепций и практик, базирующихся на идеях согласия и примирения, к началу 80-х годов было объединено термином restorative justice («восстановительное правосудие»). Вместе с тем позиция реагирования на преступления, в ядре которого – переговоры, примирительные процедуры и компенсация причиненного ущерба, восходит к глубине веков. Во второй половине XX столетия данный подход получил новую жизнь, будучи сегодня противопоставленным доминирующему карательно-юридическому способу ответа на преступление.
Сам термин «восстановительное правосудие» впервые был использован американским психологом Альбертом Иглашем (А. Eglash) в 50-е годы XX века для описания принципов, необходимых для развития гуманного правосудия. А. Иглаш определил три раз- личных парадигмы правосудия: карательную, дистрибутивную (или распределительную) и восстановительную. В отличие от карательной парадигмы, которая ориентирована прежде всего на наказание правонарушителя, и дистрибутивной парадигмы, которая основное внимание уделяет реабилитации правонарушителя, восстановительное правосудие основано на идее ликвидации ущерба, причиненного жертве. Ответственность преступника в данном случае состоит в том, чтобы выстроить коммуникацию с жертвой, своими действиями оказать ей помощь, тем самым преодолеть свою вину и заложить фундамент своего некриминального будущего. Функция правоохранительных органов и социальных служб состоит в контроле восстановительных практик.
В настоящее время движение к распространению на уголовное сферу моделей разрешения конфликтов, базирующихся на идеях согласия и примирения, описывается разными терминами – «восстановительное правосудие», «общинное правосудие», «неформальное правосудие», «реституционное правосудие» (в документах ООН). Все это свидетельствует о том, что термин «восстановительное правосудие» является устоявшимся и широко употребляемым, и потому достаточно сложно обосновать необходимость использования другого обозначения восстановительных процедур. Вместе с тем представляется, что попытка взглянуть на термин «восстановительное правосудие» с позиции нецелесообразности расширительного толкования правосудия может оказаться полезной. Но прежде чем делать вывод о неточности термина и несовпадении его с содержанием, следует определиться со смыслом, который вкладывается в него.
Связь идей, провозглашенных Конституцией РФ, с восстановительным подходом в судопроизводстве очевидна. Ничто так не отвечает требованию всемерного учета и защиты прав личности, как процедура, построенная на началах примирения, основной целью которой является, с одной стороны, наиболее полное возмещение вреда, причиненного лицу противоправным деянием (при этом речь идет не только об имущественном или физическом вреде, но и об удовлетворении морально-психологических потребностей лица в по- нимании, в желании быть услышанным, поделиться своими переживаниями в связи с противоправным деянием), а с другой – попытка ресоциализации лица, совершившего деяние, содействие его раскаянию и скорейшему исправлению [10, с. 96].
Основным стержнем восстановительного правосудия является улаживание конфликта между людьми без использования традиционных репрессивных средств уголовного судопроизводства [8, с. 42–43].
О компромиссе с преступником в рамках уголовного процесса можно говорить в двух случаях. Во-первых, по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, где для государства не столь принципиален вопрос об обязательном привлечении к уголовной ответственности виновника преступления, и допускается удовлетворение частного интереса (потерпевшего, гражданского истца, обвиняемого) за счет частичного отказа от выполнения императива о неотвратимости уголовной ответственности. Во-вторых, имеется в виду институт досудебного соглашения о сотрудничестве (глава 40.1 УПК РФ). Компромисс государства с преступником в данном случае имеет в своей основе иные соображения: жертвуя принципиальностью в решении вопросов о привлечении к уголовной ответственности и наказании одного преступника, государство использует его помощь в изобличении других опасных преступников, раскрытии и расследовании тяжких и (или) особо тяжких преступлений [1, с. 21–25].
Стремление многих государств упростить процедуру судопроизводства по уголовным делам, в которых обвиняемый признает свою вину (см.: [3]), также связано с восстановительным подходом, который, в свою очередь, может быть распространен на стадию возбуждения уголовного дела.
В таких странах, как Австрия, Канада, Австралия, США, Сербия, Болгария и другие, приняты законодательные акты о медиации как одном из способов урегулирования уголовно-правовых конфликтов, закрепляющие ее на государственном уровне, поскольку в настоящее время в этих странах медиация достигла высокого уровня востребованности (см.: [6]).
Некоторые авторы указывают на невозможность использования гражданско-право- вых моделей применительно к анализу современных уголовно-процессуальных явлений, в том числе досудебного соглашения о сотрудничестве [5, с. 176]. Совершенствование судебной системы России связано с вступлением в силу Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», позволяющего использовать институт медиации в сферах гражданского и арбитражного судопроизводства. Однако в нем ничего не говорится о медиации как альтернативном способе разрешения уголовно-правового конфликта, так как многие теоретики и практики уголовного судопроизводства с настороженностью относятся к идее медиации в уголовном процессе в силу как объективных, так и субъективных причин. Следует согласиться с мнением Л.В. Головко, что «уголовно-правовая медиация полностью выпала из поля зрения или даже считается теоретически невозможной и на концептуальном уровне логически противоречивой, поскольку идеи и техника якобы несовместимы с механизмом действия уголовного права и уголовного процесса» [4, с. 127].
Конечно, нельзя предоставить и государственным органам произвольно распоряжаться re in judicium deducta, как это обычно могут делать стороны в гражданском процессе. Противники института медиации в уголовном судопроизводстве часто рассматривают процесс медиации как некое всепрощение, попустительство со стороны государства в отношении преступника. Полагаем, что такой подход во многом идеологизирован и строится на непонимании самой сущности института медиации [9, с. 26–27]. Вместе с тем учет и согласование мнений обеих сторон являются важными предпосылками для нивелирования и разрешения уголовно-правового конфликта и выступают в качестве важнейших гарантий обеспечения прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступления.
Российские исследователи нередко видят ускорение только через призму упрощения производства по уголовному делу, ставя при этом знак равенства между ускоренным и упрощенным производством. Зарубежные исследователи проблему ускоренного, или це-лерантного, производства рассматривают как имеющую различные варианты решения, а законодатель и правоприменитель используют для этого различные механизмы, начиная от упрощения уголовно-процессуальной формы и заканчивая введением дополнительных процедур. Такой подход позволяет разработать модель ускорения уголовного судопроизводства по самым различным категориям дел, даже по тем, которые традиционно относятся к разряду усложненных. Институт медиации в полной мере отвечает решению данной задачи.
Практическую позитивность или негативность этих изменений в настоящий момент обсуждать пока затруднительно. Вместе с тем очевидно, что восстановительные практики являются объективной потребностью современного общества, перспективным направлением реформирования многих социально-правовых институтов.
Рассмотрение вопроса о понятии и сущности восстановительного подхода в уголовном судопроизводстве позволяет выделить несколько моментов, служащих точкой роста во внедрении и распространении восстановительных практик:
-
1. Понимание восстановительного правосудия в широком смысле является общепринятым, но вместе с тем не бесспорным в юридическом науке и практике, поскольку смещает акцент на судебное производство, в то время как оно характерно и для досудебных стадий уголовного процесса.
-
2. Предлагается вместо термина «восстановительное правосудие» использовать понятие «восстановительное производство» или «примирительное производство».
-
3. Представляется возможным расширить возможности восстановительного подхода путем законодательного закрепления использования института медиаторства в уголовном процессе.
-
4. Преимущества восстановительного подхода в судопроизводстве можно распространить и на проверочную стадию, до возбуждения уголовного дела, предложив в качестве документа, которым оформлялась бы данная примирительная процедура, например, согласительный протокол.
-
5. Наличие адекватных примирительных процедур способствует восстановлению
прав потерпевшего, уменьшает травмирующее воздействие системы уголовной юстиции и судопроизводства и является закономерной предпосылкой как быстрого разрешения уголовно-правового конфликта в рамках частного производства, так и обеспечения возмещения вреда, причиненного потерпевшему.
При рассмотрении обозначенных проблем становится очевидным, что восстановительный поход в уголовном процессе охватывает широкие слои отношений, затрагивая сферы как досудебного, так и судебного производства, потому было бы более правильным обозначать данную парадигму организации процесса как восстановительное производство, а не восстановительное правосудие.
Таким образом, изучение соответствующей тематической литературы позволило прийти к выводу, что проблема наличия и некорректного применения в юридической деятельности отдельных понятий остается актуальной, требующей дальнейшего изучения и анализа. Ведь от точности использования любого понятия зависит возможность применения процедур и наименование явлений, которые оно обозначает.
Список литературы Терминологическая проблема определения восстановительного правосудия
- Абшилава, Г. В. Соглашение сторон как способ разрешения уголовно-правового спора/Г. В. Абшилава//Российский следователь. -2012. -№ 5. -С. 21-25.
- Аширбекова, М. Т. «Разумный срок» как оценочное понятие в уголовно-процессуальном праве/М. Т. Аширбекова, Ф. М. Кудин//Уголовное судопроизводство. -2011. -№ 2. -С. 21-25.
- Волеводз, А. Г. Процессуальные аспекты упрощенного (ускоренного) уголовного судопроизводства в некоторых странах Европы/А. Г. Волеводз, П. А. Литвишко//Российская юстиция. -2010. -№ 10. -С. 38-41.
- Головко, Л. В. Институт уголовно-правовой медиации и его перспективы в Российской Федерации/Л. В. Головко//Закон. -2009. -№ 4. -С. 127-135.
- Карнозова, Л. М. Медиация как способ реагирования на деяния, запрещенные уголовным законом/Л. М. Карнозова//Уголовно-процессуальное законодательство РФ 2001-2011 гг.: сб. науч. ст./Л. Б. Алексеева, Г. Н. Ветрова, Л. М. Карнозова [и др.]/под ред. И. Б. Михайловской. -М.: Проспект, 2012.
- Морщакова, Т. Г. К дискуссии о восстановительном правосудии/Т. Г. Морщакова//Неволя. -2005. -№ 4. -С. 25-34.
- Касаткина, С. А. Соглашение о сотрудничестве в российском уголовном процессе/С. А. Касаткина//Труды Ин-та государства и права РАН. -2009. -№ 6. Актуальные проблемы уголовного права и уголовного процесса. -С. 176-182.
- Конин, В. В. Некоторые вопросы применения восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей/В. В. Конин//Российская юстиция. -2010. -№ 7. -С. 42-43.
- Марковичева, Е. В. Роль института медиации в ускорении уголовного судопроизводства/Е. В. Марковичева//Российский судья. -2009. -№ 9. -С. 26-28.
- Таубер, Л. Я. Иск, обвинение и состязательное начало/Л. Я. Таубер//Вестник гражданского права. -1917. -№ 2. -С. 70-105.