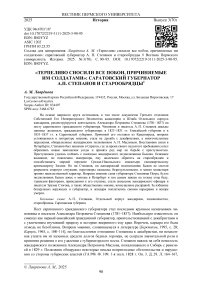«Терпеливо сносили все побои, причиняемые им солдатами»: саратовский губернатор А. П. Степанов и старообрядцы
Автор: Лаврёнова А.М.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Российская империя: страницы истории
Статья в выпуске: 3 (70), 2025 года.
Бесплатный доступ
На основе широкого круга источников, в том числе документов Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии и Штаба Отдельного корпуса жандармов, реконструируется деятельность Александра Петровича Степанова (1781‒1837) на посту саратовского гражданского губернатора. Чиновник и писатель А. П. Степанов дважды занимал должность гражданского губернатора: в 1823‒1831 гг. Енисейской губернии и в 1835‒1837 гг. в Саратовской губернии. Причиной его отставки из Красноярска, вопреки устоявшемуся в литературе мнению, стала не дружба с декабристами, а многочисленные нарушения, обнаруженные жандармским полковником А. П. Масловым. Восстановив связи в Петербурге, Степанов был назначен в Саратов, где за время своего недолгого пребывания успел образовать новые заволжские уезды и принять ряд мер по борьбе с преступностью. Преступников удалось поймать с помощью жандармского подполковника Быкова. Основное внимание, по повелению императора, ему надлежало обратить на старообрядцев и способствовать мирной передаче Средне-Никольского монастыря единоверческому архимандриту Зосиме. Но ни Степанов, ни жандармский подполковник Быков не смогли разрешить спорную ситуацию, переговоры оказались безрезультатными, и захват монастыря принял насильственный характер. Вопреки мнению сына губернатора Степанова Петра, будто подполковник Быков донес о мятеже в Петербург и тем самым навлек на голову отца беду, главными факторами, приведшими к его отставке, стали донесение жандармского офицера и писателя Эразма Стогова, а также общественное мнение, возмущенное расправой. За избиение безоружных верующих и губернатор, и жандарм поплатились своими карьерами и вскоре умерли.
А. П. Степанов, Отдельный корпус жандармов, чиновничество, старообрядцы, Саратовская губерния
Короткий адрес: https://sciup.org/147252184
IDR: 147252184 | УДК: 94(470)"18" | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-3-90-95
Текст научной статьи «Терпеливо сносили все побои, причиняемые им солдатами»: саратовский губернатор А. П. Степанов и старообрядцы
169‒175 об., 178‒180 об., 189‒193 об., 212‒216 об., 244‒252 об., 259‒273). В числе таковых были пытки свидетелей и подследственных, хищения казенных средств и кумовство местного чиновничества. Все злоупотребления стали известны царю, а также подорвали репутацию Степанова в Красноярске и вынудили генерал-губернатора Восточной Сибири А. С. Лавинского просить о его отставке (Там же. Л. 343 об.‒344).
Вернувшись из Сибири, Степанов полностью посвятил себя литературным трудам, плоды коих оказались весьма успешны: роман «Постоялый двор» заслужил одобрение публики и критиков, а за фундаментальную работу «Енисейская губерния» он был удостоен половинной Демидовской премии и снискал похвалу императора. Кроме того, в 1833 г. Степанов написал статью «Об обязанностях губернатора», в которой суммировал опыт своей службы в Красноярске, однако эта его работа носила скорее публицистический характер [ Бердников , 1995, с. 29].
Мало-помалу Степанов восстановил свои связи в Петербурге и 5 декабря 1835 г. получил новое назначение губернатором в Саратов, которое оказалось сколь кратким, столь и неудачным, и в литературе о нем известно немного [ Семёнов , 1998, с. 104‒106]. В период его губернаторства в связи с появлением новых заволжских уездов возникли города Николаевск, Новый Узень и Царев, в Саратове на Татарской улице была открыта мечеть.
На новом посту трудности начались практически сразу. В Саратове Степанов застал настоящий разгул криминала, а увидев, что полиция бессильна обуздать преступность, 13 апреля 1836 г. обратился за помощью к жандармскому подполковнику Петру Ивановичу Быкову: «По приезде в высочайше вверенную мне Саратовскую губернию встретили меня слухи о частых грабежах и воровствах, производимых в самом Саратове. Некоторые из происшествий были гласны, другие передавались смутно в народе от одного к другому, по многим из сих происшествий произведенные следствия полицией были крайне неудовлетворительны. Эти обстоятельства заставляют меня обратиться к Вам, как к лицу, имеющему более средств во всех отношениях к открытию истины и просить Вас покорнейше, как прояснить мне на счет сих слухов, так и положить преграду самым преступлениям, если они действительно существуют» (ГА РФ. Ф. 109. 4-я эксп. 1836 г. Оп. 176. Д. 102. Л. 5). За процессом поимки преступников наблюдали из столицы: в мае 1836 г. в Санкт-Петербурге был получен рапорт от жандармского полковника Н. Д. Булыгина с изложением донесения подполковника П. И. Быкова, на основании которого для царя была составлена краткая записка.
На сей раз дело увенчалось успехом: жандармский подполковник изловил пятерых разбойников во главе с саратовским мещанином Иваном Чирковым, совершавших ночные налеты на дома мирно спящих саратовцев, а также раскрыл воровские притоны и посредников в сбыте краденого. Назвать членов шайки ловкими профессионалами трудно: большую ее часть составляли пьяницы, которые не имели никаких выгод со своего незаконного промысла, так как главарь не только не делился с ними, но и отнимал и пропивал их собственные вещи. Разбойники ограбили квартиру иностранца Сейлера (забрали 4 талера, 12 целковых, овчинный тулуп, платки и рубахи) и дом мещанина Василия Иванова (украдены деньги, два сарафана, рукава от женского платья и т.д.). Оружием разбойникам служили казачья сабля, старое ружье, кинжал и поварской нож (Там же. Л. 1‒4 об., 6‒7).
По делу о поимке саратовских разбойников был составлен всеподданнейший доклад, а губернатору Степанову и жандармскому штаб-офицеру Быкову за содействие в борьбе с воровством и бродяжничеством была объявлена благодарность. Вместе с тем полицмейстер Михаил Евреинов, пристав 1-й части г. Саратова Спиридонов и квартальный надзиратель Акатов были удалены с должностей и отданы под суд (Там же. Л. 8‒10, 14). Впрочем, для полицмейстера все в итоге кончилось хорошо: все инстанции военного суда признали полковника Евреинова невиновным, половину удержанного жалованья вернули, а за раны ему был пожалован пенсион, и в 1838 г. бывший подсудимый вновь просил у Бенкендорфа места (ГА РФ. Ф. 109. 4-я эксп. 1838 г. Оп. 178. Д. 119. Л. 1‒3).
Но это было только начало. В мае 1836 г. Третьим отделением СЕИВК были получены сведения о том, что чиновники Саратовской гражданской палаты якобы берут взятки по 5 рублей за выдачу свидетельства на свободность имения. Эти сведения стали известны императору, и тот поручил обратить на это дело пристальное внимание. Тут же были потребованы сведения от Саратовского гражданского губернатора и губернского прокурора, которые доложили, что «на счет означенный незаконных сборов не только формальных жалоб доселе ни от кого не было, но даже и частных сведений до них не доходило», но на будущее обещали быть начеку. Прокурор же предоставил и виноватого, сообщив, что о «поползновениях на некоторую лихву» секретаря палаты Павла Румянцева были в апреле «некие невнятные слухи», почему тот и был уволен, а его обязанности были переданы советнику палаты коллежскому асессору Лукину (ГА РФ. Ф. 109. 1-я эксп. 1836 г. Оп. 11. Д. 124. Л. 1‒3 об.).
Жертвой следующего эпизода из жизни Саратовской губернии, вести о котором долетели до столицы, сделался как сам губернатор, так и подполковник Быков. Это роковое для обоих событие фигурирует в записках известного жандармского штаб-офицера, бытописателя и по иронии судьбы родственника Степанова Эразма Ивановича Стогова («Раскольничья обитель»), опубликованных в «Русской старине» в декабре 1878 г. ( Стогов , 1878, с. 631‒704). В марте 1879 г. на страницах того же журнала военный писатель Петр Александрович Степанов, сын бывшего губернатора, поместил свои критические замечания и комментарии к соответствующему фрагменту из записок Стогова ( Степанов , 1879, с. 552‒554). Данные статьи вкупе с архивными документами способны достаточно подробно восстановить картину произошедшего.
В феврале 1837 г. на саратовского гражданского губернатора была возложена миссия по проведению передачи находящегося близ г. Николаева Средне-Никольского старообрядческого монастыря, переименованного в единоверческий, прибывшему в Саратов из Высоковского единоверческого монастыря архимандриту Зосиме.
Петр Степанов приводит любопытную деталь: еще в Петербурге на приеме по случаю нового назначения царь указал А. П. Степанову на проблему раскольников в иргизских скитах, а на обещание последнего «привести их к одному знаменателю» Николай I, напротив, повелел ему «действовать осторожно и не раздражать». Степанову были даны все необходимые разъяснения, касающиеся раскольников, и было предложено «употребить разумные, ненасильственные, но мягкие меры» ( Степанов , 1879, с. 552).
Губернатор отправил к монастырю вместе с архимандритом городничего, пристава саратовской полиции и 25 человек военных. По прибытии их в монастырь настоятелю и братии была объявлена высочайшая воля, на что старообрядцы заявили, что они воле государя императора не противятся, вручили ключи от монастыря, однако добавили: «Делайте, что хотите, но мы мешаться ни во что не можем». Как только по приказу архимандрита Зосимы была отперта церковь, из соседних деревень тотчас явилась толпа крестьян, которые, в свою очередь, объявили, что монастыря не отдадут, потому что не видят подписи государя и считают, что это подлог. На другой день число протестующих возросло до нескольких сотен, и толпа заперлась в монастыре с явным намерением отстоять монастырь (ГА РФ. Ф. 109. 4-я эксп. 1837 г. Оп. 177. Д. 70. Л. 1‒3).
На место по просьбе епископа саратовского и царицынского Иакова выехал подполковник Быков. К слову, Быков уже отличился на ниве борьбы с расколом, обнаружив в Саратове сборище скопцов в апреле 1835 г., за что ему было объявлено монаршее благоволение, а в июле 1833 г. был командирован в единоверческий Воскресенский монастырь для расследования покушения на архимандрита Платона (ГА РФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 694. Л. 33‒35). Жандарм, хоть и был болен, на просьбу преосвященного не откликнуться не мог (ГА РФ. Ф. 109. 4-я эксп. 1837 г. Оп. 177. Д. 70. Л. 4). В г. Николаеве его встретили посланные Степановым частный пристав саратовской полиции Константиновский и советник саратовского губернского правления Зевакин. Монастырь был оцеплен.
Настоятель Средне-Никольского старообрядческого монастыря инок Корнилий с братией подал прошение А. Х. Бенкендорфу о защите их от притеснений местного саратовского начальства, в котором утверждал, что окружившие монастырь не давали осажденным набрать воды и морили их голодом (ГА РФ. Ф. 109. 2-я эксп. 1836 г. Оп. 66. Д. 528. Л. 2‒3). Император, хоть и остался безучастен к жалобам раскольников, за этим делом следил пристально и читал все рапорты Быкова, регулярно доставляемые ему А. Х. Бенкендорфом. Так, в рапорте от 22 февраля 1837 г. Быков сообщает: «По прибытии моем в монастырь, беседуя весьма долгое время начально с монашествующими, а потом с крестьянами, я не заметил ни в одном человеке буйного какого-либо намерения, а, напротив, со всею покорностью ответствовали мне, что монаршей воле они не противятся и противиться не смеют, но оставить монастырь сами по себе за данную пред Богом клятвой не могут» (ГА РФ. Ф. 109. 4-я эксп. 1837 г. Оп. 177. Д. 70. Л. 4‒6). Быков пытался разубедить их, объясняя, что «воля царя земного, действующего по воле царя небесного, разрешает их клятву, и что волю сию они свято должны исполнить», а именно: крестьяне – разойтись по домам, а монахи – принять единоверие и остаться на месте или переселиться к собратьям в Преображенский раскольнический монастырь. Затем Быков разъяснил, что в случае их дальнейшего неповиновения губернское начальство будет вынуждено прибегнуть к силе, однако раскольники отвечали, что «тогда они будут пред Богом и совестью своей правы, ибо оставили монастырь не по своему желанию» (Там же). Это дало Быкову повод решить, что они лишь формально держатся клятвы, но «когда выведут из оного силой, то противиться не будут» (Там же). Оружия у протестующих не было, действия их заключались только в том, что при появлении чиновников у монастырских ворот они били один раз в колокол, и по этому сигналу прихожане собирались вокруг церкви, как бы демонстрируя намерение ее защищать, но по приближении к ним чиновников падали на колени и просили ходатайства у государя императора оставить монастырь за ними, говоря, что в этом монастыре молились их деды и отцы «и они желают молиться в нем до конца жизни своей» (Там же). Обо всем увиденном Быков доложил А. П. Степанову.
-
10 марта Степанов, получив через министра внутренних дел высочайшее разрешение употребить силу оружия против неповинующихся раскольников, отправился в г. Николаевск и потребовал к себе настоятеля староверческого монастыря. В записках Стогова этот эпизод описан весьма колоритно: «В какой-то домик вызвал архимандрита монастыря и говорил с ним, оградившись от него двумя жандармами с обнаженными саблями, скрещенными перед особой губернатора. Преэффектная картина, когда я скажу, что злодей-архимандрит был маленький старичишка, для уничтожения которого довольно одного кулака» ( Стогов , 1878, с. 688). Но «старичишка» уговорам губернатора не поддался.
-
13 марта поутру к монастырю была стянута николаевская гарнизонная команда. Казаки пытались разогнать старообрядцев нагайками, но те сцепились руками и отказывались разойтись. Тогда были привезены два артиллерийских орудия, а между ними поставили две пожарные трубы. В людей начали стрелять холостыми зарядами и поливать их ледяной водой, которая из-за мороза превращалась в град. Таким образом, к 3 часам пополудни «мерами полицейского убеждения» Степанов вывел из монастыря находившихся там иноков и крестьян мужеского и женского пола до 500 человек, арестовал и отправил в город для содержания под стражей, при этом как монахи, так и крестьяне никак обороняться не пытались: иноки просто заперлись в своих кельях, а прихожане лежали вокруг церкви на снегу и «терпеливо сносили все побои, причиняемые им солдатами и понятыми, до того, что некоторых из них повезли уже в город на подводах» (ГА РФ. Ф. 109. 4-я эксп. 1837 г. Оп. 177. Д. 70. Л. 9‒10).
Хотя подобная расправа над безоружными людьми и не была всецело плодом личной инициативы губернатора, вследствие крайнего возмущения общественности и, по-видимому, донесения Э. И. Стогова, давшего весьма неудовлетворительную характеристику саратовским чиновникам, А. П. Степанов был снят с должности и причислен к Статистическому комитету Министерства внутренних дел. Петр Степанов напрасно винил подполковника Быкова в том, что тот донес в Петербург о бунте и тем накликал беду на голову его отца. Пожилой, малоимущий и многосемейный Быков и сам был вскоре отправлен в отставку (ГА РФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 694. Л. 12). Начальник 6-го округа Корпуса жандармов генерал-майор граф П. И. Апраксин так охарактеризовал его: «Чиновник он способный и усердный, но слухи саратовские на его счет не дозволяют ему более оставаться на своем месте, и местное начальство на него в неудовольствии, кроме архиерея» (Там же. Л. 2).
Бывший губернатор был подавлен случившимся. В конце 1837 г. состояние его здоровья резко ухудшилось, и он слег в постель. 25 ноября 1837 г. А. П. Степанова не стало. Он был похоронен близ церкви в с. Троицкое. В декабре 1839 г. в бедности и унынии скончался в
Саратове и отставной жандармский полковник Быков, так и не добившийся своей реабилитации (Там же. Л. 49 об.).
Знакомство с А. В. Суворовым, близость к декабристам и литературные работы Степанова долгое время служили ему оберегом от какой-либо критики, однако саратовский эпизод со всей очевидностью демонстрирует, что его красноярские злоключения не являлись ни случайностью, ни плодом интриг жандармского полковника Маслова, а всего лишь закономерным итогом деятельности чиновника, так и не научившегося решать стоящие перед ним задачи без помощи насилия. Однако если применительно к лихому, в значительной мере состоящему из каторжников населению Енисейской губернии эта жестокость гражданского губернатора и лиц из его администрации была терпима достаточно долго, то подобное обращение с мирными безоружными верующими закономерно стоило ему поста. Кроме того, история захвата старообрядческого монастыря показывает степень вовлеченности монарха в дела страны, роль, которую играло Третье Отделение в деле надзора за местными властями, а также степень ответственности жандармских чинов, которые рисковали карьерой не меньше тех, за кем они были призваны наблюдать.