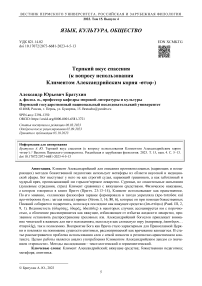Терпкий вкус спасения (к вопросу использования Климентом Александрийским корня --)
Автор: Братухин А.Ю.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Климент Александрийский для описания противоположных (карающих и поощряющих) методов божественной педагогики использует метафоры из области вкусовой и медицинской сферы. Бог выступает у него не как строгий судья, карающий грешников, а как заботливый и мудрый врач, прописывающий им горькое/терпкое лекарство. Суровые, но спасительные испытания (душевные страдания, страх) Климент сравнивал с вяжущими средствами. Физическое наказание, о котором говорится в книге Притч (Притч. 23:13-14), Климент истолковывает как нравственное. По его мнению, «эллинская философия заранее формировала и загодя укрепляла (προ-τυποῦσα καὶ προ-στύφουσα букв.: загодя вязала) нравы» (Strom. I, 16, 80, 6), которые он при помощи божественных Писаний собирается подкрепить, используя последние как вяжущее средство (ἐπι-στύψω) (Paed. III, 2, 9, 1). Водянистость (ὑδαρότης, ὑδαρές, ὑδατῶδες) в некоторых случаях ассоциируется им с порочностью, а обличение рассматривается как вяжущее, избавляющее от избытка жидкости лекарство, призванное остановить распространение греховных язв. Александрийский богослов привлекает внимание читателей к важным для него положениям, используя как словесную игру (например, ἐπιστῦφον… σταφυλῆς), так и полисемию. Восприятие Бога как Врача стало характерным для Православной Церкви и повлияло на понимание сущности епитимьи, рассматриваемой как врачевание кающегося. В статье рассматривается проблема использования слов с семой вязкости в религиозно-нравственном контексте. Целью работы является анализ употребления Климентом Александрийским лексем со значением «терпкости». Методы исследования - текстологический и герменевтический.
Климент александрийский, вяжущие средства, божественная педагогика, метафора, епитимья
Короткий адрес: https://sciup.org/147242757
IDR: 147242757 | УДК: 821.14.02 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-4-5-13
Текст научной статьи Терпкий вкус спасения (к вопросу использования Климентом Александрийским корня --)
Образ «терпкости» интересен своей амбивалентностью. А. А. Полякова и Е. А. Юрина так отмечают этот факт: «Значения образных средств языка, выражающих метафору ‘терпкий’, демонстрируют неоднозначное отношение к этому вкусу. С одной стороны, он оценивается как неприятный: терпкие продукты раздражают вкусовые рецепторы, оставляют во рту оскомину, вяжущие ощущения. Эти ассоциации лежат в основе метафорической характеристики печальной музыки, неприятных высказываний, мучительных чувств и тягостных событий <…>. С другой стороны, терпкость придает продуктам и напиткам необычный, яркий вкус, что ставит их в одну группу с пряными и острыми. Это качество терпких продуктов отразилось в образных наименованиях оригинальных, привлекающих внимание объектов, волнующих ощущений, вызывающих сильные эмоции жизненных событий, привлекательной, чувственной внешности <…>» [Полякова, Юрина 2020: 80].
Приведем часть таблицы из статьи Е. Ю. Яровой [Яровая 2015: 80].
Как мы увидим, в греческой раннехристианской литературе II–III вв. слова с семой вязкости, образованные от корня -στυφ-, имели несколько иные коннотативные значения, чем в современных русском, английском и французском языках.
Коннотативные значения прилагательных с семой вязкости Connotative meanings of adjectives with the seme of astringency
|
Сема |
Русский |
Английский |
Французский |
|
Имеющий неприятный запах |
терпкий запах |
acrid smoking ‘терпкий сигаретный дым’ |
une âcre fumée ‘терпкий дым’ |
|
Имеющий яркий цвет |
терпкий цвет |
pungent roses ‘яркие розы’ |
les couleurs acerbes ‘яркие цвета’ |
|
Имеющий резкий неприятный звук |
an acerbic tone ‘ резкий тон’ |
parler d‘un ton acerbe ‘говорить резким тоном’ |
|
|
Имеющий язвительный характер |
он умный человек, но терпкий |
he grows more acrid ‘он растет более язвительным’ |
il est très âcre ‘он очень язвителен’ |
Климент Александрийский неоднократно обращался к существительным, прилагательным, глаголам и образованным от них причастиям с корнем -στυφ-: στύμμα1, στῦψις2, στυπτικός3, στύφειν4, ἐπιστύφειν5, προστύφειν6. Использовал Климент их как в буквальном (при описании вкуса и медицинского/химического эффекта), так и в переносном значении – «укорять, бранить», «укреплять, закреплять». Иногда он сравнивал негативные, но душеспасительные испытания (страдание, страх) с вяжущими средствами. «Восприятие горького и терпкого вкуса выступает основанием для метафорического переноса на печальные, горестные, тягостные события и жизненные явления» [Полякова, Юрина 2020: 81].
Отметим, что Климент интересовался фармакологией и, по всей видимости, разбирался в ней. О знании Климентом современной ему медицины мы писали ранее [Братухин 2011: 128]. На частое использование медицинских метафор в «Педагоге» обращал внимание Э. Ф. Осборн: «Предметом своей второй основной работы Климент делает обучение, осуществляемое Педагогом. Концом этого обучения являются не теоретические знания, а правильная жизнь. Педагог исцеляет страсти и направляет поведение. Часто используются медицинские метафоры. Обличение – это операция, которая вскрывает нарыв страсти. Бывают времена, когда надо ранить бесчувственную душу и ценой малой боли спасти ее от вечной смерти. Используется и другая медицинская метафора. Когда нас обличают, ставится диагноз нашего духовного состояния» [Osborn 1957: 77]. Остановимся на фрагментах из «Педагога», в которых говорится о вяжущем воздействии на организм человека цветочного запаха и мирсина. «Запахи же роз и фиалок, будучи чуть-чуть холодящими, уменьшают и вяжут (ἐπιστύφουσι) головную боль <от похмелья>» (Paed. II, 8, 71, 4). Похожее место обнаруживаем у Плутарха: «И то и другое оказывает стягивающее действие, и запах такого венка успокаивает головную боль (στύφει… <συ>στέλλει τῇ ὀσμῇ τὰς καρηβαρίας)» (Plut. Quaest. conv. 647d; пер. Я. М. Боровского). О сходстве мыслей, высказываемых Плутархом и Климентом, говорит Й. Габриэльссон: «Мы находим очень точную параллель с отрывком об ἄνθη στεφανωτικά (цветах в венках) у Плутарха. <…> Климент предоставляет, однако, больше информации, чем Плутарх <…>. Здесь следует задаться вопросом, заимствует ли Климент материал у Плутарха и использует вторичный источник, или оба они восходят к более древнему источнику» [Gabrielsson 1909: 304]. Не ставя перед собой цели выяснить источник Климента, отметим его осведомлённость в этой теме. Чуть ниже он утверждает: «Мирсин же, <изготовленный> из миртовых ягод и побегов, обладает вяжущим свойством (στυπτικόν), удерживающим выделения из тела»
(Paed. II, 8, 76, 2). По словам Плиния Старшего (I в. после Р.Х.), масло мирта обладает вяжущим и укрепляющим действием (adstringit, indurat) ( Plin . H. N. XXIII, 44, 87); сок действует вяжуще на кишечник и обладает мочегонным эффектом (alvum sistit, urinam ciet) ( Plin . H. N. XXIII, 81, 160); сухие листья, измельченные в порошок и посыпанные <на кожу>, останавливают потоотделение (foliorum arentium farina sudores cohibet inspersa) ( Plin . H. N. XXIII, 81, 161); отвар листьев мирта в вине принимают при дизентерии и водянке (eadem in vino decocta dysintericis et hy-dropicis potui dantur) ( Plin . H. N. XXIII, 81, 162). Не настаивая на зависимости Климента от Плиния Старшего, мы вновь подчеркнем тот факт, что христианский автор непринужденно использовал данные современной ему науки.
Перейдем теперь к рассмотрению тех пассажей, содержащих слова с корнем -στυφ-, анализ которых поможет нам лучше понять учение Климента Александрийского, касающееся божественной педагогики. Александрийский богослов советует: «Малω же вiна прiемли, стомаха ради твоегω (см.: 1 Тим. 5:23), говорит апостол пьющему одну лишь воду Тимофею, замечательным образом предлагая вяжущее средство, подходящее для больного и вялого от избытка жидкости тела, но назначая его в малом количестве, чтобы из-за <своего> обилия лекарство незаметно не вызвало необходимости в ином лечении» (Paed. II, 2, 19, 1)7. По этому поводу Э. Н. Эдеворд пишет: «Климент начинает свое обсуждение пищеварительных свойств вина со ссылкой на 1 п Тим. 5:23. В этом отрывке из Священного Писания Павел советует Тимофею употреблять вино для желудка (στόμαχος) в качестве вяжущего средства (τὸ ἐπιστῦφον βοήθημα), поскольку употребление воды сделало Тимофея больным (νοσηλεύω) и вялым телом (πλαδῶντι σώματι) (2.2.19.1). <…> Хотя Климент не указывает тип вина, которое должен употреблять Тимофей, правильно смешанное сухое белое вино (αὐστηρόν, λεπτόν, λευκόν, ὑδαρέα) принесло бы пользу человеку в состоянии Тимофея» [Edewaard 2020: 161–162]. Христианский богослов, в отличие, например, от Горация, не стремился к конкретике и не имел в виду определенную марку вина. Ниже (Paed. II, 2, 19, 4–20, 2), по словам Э. Иттера, «Климент дает формальный отчет (a formal account) о литургической Евхаристии» [Itter 2009: 136, note 103]. На наш взгляд, Климент использует в разбираемых нами 19-й и 20-й главках «антиалкогольный» пафос, чтобы, противопоставив воду, «питие трезвости», данное Богом древним евреям в пустыне (Paed. II, 2, 19, 2), «крови винограда», прелагаемой в Кровь Христа, раскрыть свое учение о Евхаристии и обóжении: причащающиеся освящаются телом и душой, и эту смесь, человека, воля Отца соединяет с Духом и Логосом (Paed. II, 2, 20, 1). Малое количество <новозаветного> вина должно подкрепить Тимофея, пьющего лишь <ветхозаветную> воду. Остановимся на этом подробнее. Со значением «укреплять/подкреплять» слова с корнем -στυφ- встречаются у Климента дважды:
-
1) «Эллинская философия <…> предуготовляет путь царскому учению, <…> заранее формируя и заранее укрепляя (προ-τυποῦσα καὶ προ-στύφουσα) нравы» (Strom. I, 16, 80, 6);
-
2) «Немного позже я подкреплю (ἐπι-στύψω) свои слова и божественными Писаниями» (Paed. III, 2, 9, 1). В «Увещевании» (68–88) Климент использует тот же метод: обратившись сначала к изречениям языческих авторов, писавших о Божественном более или менее правильно и подготавливавших людей к принятию истины, затем приводит цитаты из Священного Писания, призванные расставить все точки над i в знании о Боге.
В первом случае (Strom. I, 16, 80, 6) очевидно желание Климента использовать словесную игру: protypusa – prostyphusa. Каламбуры широко использовались и в новозаветных текстах. С. С. Аверинцев пишет: «Для нашего уха такие созвучия8 отдают чем-то не очень торжественным, и мы называем их каламбурами; но учительная традиция восточных народов искони пользовалась ими как праздничным убранством речи и одновременно полезной подмогой для памяти, долженствующей цепко удержать назидательное слово» [Аверинцев 1987: 21]. В сочинениях Климента подобные приемы встречаются очень часто, возможно, под влиянием представителей Второй софистики, которые пытались воздействовать на своих слушателей, в том числе ритмом, гомеотелевтами, аллитерациями и другими подобными приемами.
Вернемся к анализу отрывка о совете апостола Тимофею. Как эллинская философия стала для язычников подготавливающей (προ-στύφουσα) к принятию истины, которую Климент намеревается подтвердить (ἐπι-στύψω) библейскими цитатами, так к воде, трезвящему питию блуждающих в пустыне евреев, добавляется вино, вяжу-щее/подкрепляющее тех, кто достиг зрелости. Некоей притчей может служить следующее замечание Климента: «Пожилым людям охотнее следует позволить участвовать в пирах, без вреда вновь воспламеняя лекарством лозы хлад возраста <…>» (Paed. II, 2, 22, 3). Ср. противопоставление молока и твердой пищи в 1 Кор. 3:2.
На внутреннюю связь рассуждения о Евхаристии с рассказом о совете Тимофею, по нашему мнению, указывает наличие похоже звучащих слов: «вяжущее средство» (τὸ ἐπιστῦφον βοήθημα) и «кровь винограда» (τὸ αἷμα τῆς σταφυλῆς) (Paed. II, 2, 19, 3). Отметим также, что чуть ниже (Paed. II, 2, 20, 3–4) говорится о вызываемом вином сексуальном возбуждении9, а глагол στύειν имеет значение «penem erigere, in Erection sein» [Frisk 1960: 816]. Хотя Шантрен ставит связь между στύφειν от στύειν под сомнение [Chantraine 1968: 1067], для автора «Педагога» бросающееся в глаза сходство (die formale Ähnlichkeit springt in die Augen) [Frisk 1960: 816] между двумя этим глаголами должно было быть определяющим.
Восхваляя вяжущие средства, полезные при избытке жидкости, Климент рассматривал влагу как аллегорию порока или немощи: «Нужно знать, что как хлеб, положенный кусками в разбавленное вино, захватывает вино, воду (τὸ ὑδατῶδες) же оставляет, так и плоть Господа, хлеб небесный, впитывает кровь, вскармливая людей неба в нетление, оставляя же тлению лишь те плотские похоти» (Paed. I, 6, 47, 1). «<Египтяне> не прикасаются к рыбе из-за некоторых мифов, но особенно из-за того, что такая пища делает плоть водянистой/дряблой (πλαδαράν). <…> говорят, что рыбы дышат не этим воздухом, а тем, который смешался с водой (τῷ ὕδατι) в момент ее первого сотворения» (Strom. VII, 6, 33, 8–34, 1).
«Водянистость» также рассматривалась Климентом как нечто отрицательное. В Paed. II, 1, 8, 4 он пишет: «Итак, нужно воздерживаться от идоложертвенного, <…> из-за непостоянства (διὰ τὴν ὑδαρότητα) <людей,> воспринимающих большинство вещей с колебанием». Слово ὑδαρότης, отсутствующее в LSJ, учитывается словарем Дж. У. Г. Лампе. Согласно ему, оно имеет значение “wateriness”, употребляется у Палладия в пассаже, где говорится об искажении чистого знания водянистостью рассуждений, метафорически со значением weakness – у Климента о людях (в приведенном выше фрагменте), со значением moral laxity – у Эпифания [Lampe 1961: 1422]. Заметим, что это слово как гапакс впервые появляется именно у Климента. Ниже у него читаем: «Если Он и сделал воду вином на браке, Он не разрешил напиваться, но оживотворил водянистость мыслей (τὸ δὲ ὑδαρὲς τοῦ φρονήματος ἐζωοποίησεν) <…>. Писание назвало вино таинственным символом святой Крови» (Paed. II, 2, 29, 1).
Избыток в теле влаги Климент рассматривал как признак невоздержанности: «Находящиеся же в расцвете <люди>, <…> ежедневно завтракая, отведав только хлеба, пусть совершенно воздерживаются от питья, чтобы излишняя находящаяся в них влага (τὴν περιττὴν ὑγρότητα) по- глощалась, впитываясь благодаря сухоядению. Ведь и непрерывно плевать, и сморкаться, и бегать для опорожнения – признак невоздержанности, <появляющийся> из неумеренного прибавления влаги, вливающейся с избытком в тело. Если и случается жажда, пусть <молодые люди> утоляют эту страсть небольшим количеством воды: ведь не подобает без удержу наполнять себя ею, чтобы пища не вымывалась, но размягчалась для переваривания, когда она встраивается в тело, и <лишь> немногое полностью удаляется в выделения» (Paed. II, 2, 21, 2–3).
Чистота ассоциируется с сухостью: «Ибо как следует пользоваться пищей для того, чтобы не голодать, так следует пользоваться питием, чтобы не жаждать, со всем тщанием остерегаясь падения: ведь проникновение вина <в человека> делает того склонным к падению. Так наша душа сделается, пожалуй, чистою, и сухою, и световидною (καθαρὰ καὶ ξηρὰ καὶ φωτοειδής), “сияние же – душа сухая, мудрейшая и лучшая” ( Heracl . Fr. 118.). Таким образом, она предается созерцанию и не является влажной (κάθυργος) от винных испарений, материализовавшейся наподобие тучи» (Strom. II, 2, 29, 2–3). Итак, сухость и вяжущие средства, помогающие бороться с избытком жидкости в организме, Климент рассматривает как нечто положительное, а водянистость – как отрицательное.
Неоднократно слова с корнем -στυφ- у Климента означают «укорять», «уязвлять». Порицание рассматривается им как полезный и действенный элемент воспитания.
-
1. «Те же, которые бранят (ἐπι στύφ οντες) для пользы, если в настоящий момент и тягостны, но оказывают услугу для будущего века» (Paed. I, 9, 75, 3).
-
2. «Поэтому и сам апостол укоряет (ἐπι στύφ ει) по отдельности церкви <…>. Он посыпает не только облегчающими/нежными снадобьями (τὰ ἤπια ἐπιπάσσει φάρμακα), но и терпкими, вяжущими (τὰ στυπ τικά). Ведь горькие корни страха останавливают распространение греховных язв» (Paed. I, 9, 83, 1–2). Этот пассаж – один из самых любопытных, так как в нем обыгрывается звучание слов с разным значением, но одинаковым корнем; кроме того, здесь мы обнаруживаем гомеровское выражение ἤπια φάρμακα «унимающие боль лекарства», ср. Δ, 218 и Λ, 515, 830 [Clément d’Alexandrie 1960: 258, note 3].
-
3. «...если мы показали домостроительство, касающееся воздействия на человечество терп-костью/резкостью (τὸ ἐπι στύφ ειν), как благое и спасительное, принимаемое Логосом по необходимости и явившееся пригодным для <вызывания> раскаяния и воспрепятствования грехам, то после этого хорошо бы рассмотреть кротость (τὸ
-
4. «Гераклит, порицая (ἐπι στύφ ων) неких за неверие, говорит: “Не умеющие слышать и говорить”, разумеется, <делает это,> получив помощь от Соломона: “Если полюбишь слушать, примешь, и, если приклонишь ухо твое, станешь мудрым” (Сир. 6:34)» (Strom. II, 5, 24, 5). Греческий философ, как и апостол, словесными средствами, угрозами пытается заставить неверующих прийти к мудрости.
-
5. «Старайся слушать хотя бы кого-либо одного, говорящего откровенно и в то же время уязвляющего и лечащего (καὶ στύφ οντος ἅμα καὶ θεραπεύοντος)» (Quis dives. 41, 2). Этот пассаж вызывает в памяти стих из Второзакония, содержащий синоним к глаголу θεραπεύω «Я поражу (πατάξω), и Я исцелю (ἰάσομαι)» (32:39). Ср. также: «Ибо Он причиняет раны, и Сам обвязывает их; Он нанес удар (ἔπαισεν), и Его же руки уврачевали» (Иов 5:18); «ибо Он уязвил ( טרף [ṭārāṗ], ἥρπακεν, букв . разорвал) – и Он исцелит нас, поразит (יך [ya k ə], πατάξει) – и перевяжет наши раны» (Ос. 6:1). Но, в отличие от Библии, Климент для описания противоположных (карающих и поощряющих) методов божественной педагогики находит метафоры из области вкусовой сферы. Такие тропы не являются редкими в литературе. «Значительный фрагмент метафоризации пищевой сферы составляет признаковая гастрометафора, которая реализует проекцию различных свойств и качеств продуктов питания на разнообразные явления окружающего мира. Например, <…> терпкий ‘оригинальный, выразительный, привлекающий внимание’» [Полякова, Юрина 2020: 77].
ἤπιον) Логоса» (Paed. I, 10, 89, 1). Здесь снова кроткое/нежное противопоставляется терпкому.
Климент часто говорит о двояком способе воспитания людей: «<…> процесс спасения понимается <Климентом Александрийским> как божественная педагогика, конечной целью которой является приобретение добродетели и знания. <…> божественное наказание задумано как исправляющее, ведущее к преобразованию позиции, определяемой невежеством. Как утверждает Педагог, главная цель Бога – добиться покаяния человека, а Его угрозы и наказания предназначены для блага грешника» [Lanzillotta 2013: 216]. В «Увещевании» Климент пишет: «В самом деле, насколько лучше для людей с самого начала не желать того, чего желать не должно, чем получать желаемое? Но вы не приемлете терпкого вкуса (τὸ αὐστηρόν) спасения. Как мы радуемся сладкой пище, предпочитая ее остальной из-за наслаждения, получаемого при вкушении ее (хотя лечит нас и исцеляет горькая (τὰ πικρά), раздражающая чувства, а слабых желудком укрепляют неприятные на вкус лекарства (ἡ τῶν
φαρμάκων αὐστηρία)), так и привычка услаждает и щекочет. Но она толкает нас в пропасть, истина же приводит на небеса» (Protr. 10, 109, 1). Бог выступает не как судья, бичующий или опаляющий грешников, а как заботливый и мудрый врач. Интересной представляется интерпретация слов из Книги Притч: «Так и через Соломона возвещается: Ты жезломъ бей (πάταξον, в Библии: πατάξεις, побiеши ) сына , душу же єгω ωт смерти избавь (ср. Притч . 23:14). И вновь: Не преставай младенца наказовати: но исправляй (εὔθυναι) єго жезломъ, ибо он не умрет (ср. Притч . 23:13, где сказано: аще бо жезломъ бiе-ши єго, не умретъ ). Ибо обличение (ἔλεγχος) и поношение (ἐπίπληξις), как намекает и <их> имя, есть удары (πληγαί) по душе, сдерживающие грехи и смерть отвращающие, ведущие же к рассудительности тех, кто склонен к распущенности. Так и Платон, познав величайшую силу исправления и сильнейшее очищение – обличение (τὸν ἔλεγχον), в соответствии с Логосом полагает, что человек совершенно оскверненный сделался из-за отсутствия обличения невежественным и гнусным в той степени, в какой подобало, чтобы грядущий стать поистине счастливым был безупречнейшим и прекраснейшим» (Paed. I, 9, 82, 1–3). Климент физическое наказание, предписываемое Соломоном, истолковывает как нравственное, ссылаясь при этом на Платона ( Plato . Soph. 230d–e).
Александрийский богослов обращается к образу превратившейся в соляной столп жены Лота ( Быт . 19:26), говоря, что он (образ) «не бесполезен, но способен приправить и оказать вяжущее воздействие (ἀρτῦσαι δὲ καὶ στῦψαι) на духовно созерцающего» (Strom. II, 14, 61, 4). Глагол ἀρτύειν употребляется в Новом Завете всего три раза ( Мк . 9:50, Лк . 14:34, Кол . 4:6) и только в связи с солью [Schmoller 1994: 66]. Пример жены Лота призван, по мнению Климента, стать соленым и терпким предостережением для человека, способного разглядеть тайный смысл в библейских текстах (ср. Protr. 10, 103, 4). В «Педагоге» Климент говорит о трех типах совета: «Есть три направления совета. Первое – заимствующее примеры из прошедших времен <…>. Второе – постигаемое из настоящего времени <…>. Третье направление совета основывается на будущем <…>. Имеется же и другой вид его педагогики, благословение» (Paed. I, 10, 90, 2–92, 1).
Идея воспитательного «терпкого» порицания красной нитью проходит практически через все сочинения Климента. В «Педагоге» он заявляет: «Поношение (ἐπίπληξις) есть поносительный укор (ἐπιτίμησις ἐπιπληκτική) или хлесткое порицание; пользуется же Педагог и этим лечением, говоря через Исайю: Горе, чада ωтступившая, сiя глаголетъ Господь: сотвористе совѣтъ не Мною и завѣты не духомъ Моимъ (Ис. 30:1). В каждом отдельном случае Он пользуется страхом как весьма терпким вяжущим средством (στύμματι δὲ αὐστηροτάτῳ), одновременно обуздывая народ и обращая с помощью страха к спасению, как окрашиваемую шерсть обычно подвергают действию едкого раствора (προ-στύφεσθαι) при приготовлении к надежному усвоению краски» (Paed. I, 9, 78, 1)10. Здесь обыгрывается звучание слов с похожим значением и одинаковым корнем: от «терпкого вкуса» Климент переходит к «едкому раствору». К образу, заимствованному из сферы обработки тканей, александрийский богослов возвращается в «Строматах»: «Ибо как вяжущее средство при окрашивании (ἡ στῦψις τῆς βαφῆς) шерсти, оставаясь <на ней>, предоставляет ей характерные свойства и изменение по сравнению с другой <шерстью>, так и в душе страдание ушло, но остается прекрасное, и сладкое сохраняется, позорное же стирается» (Strom. VI, 12, 103, 6). Единственный случай, когда слово с рассматриваемым корнем появляется у Климента в негативном контексте, обнаруживаем в «Педагоге»: «Ведь со временем рисунок линяет, стирки же и пропитывания в вяжущих лекарственных соках при окрашивании (αἱ στύψεις τοῖς φαρμακώδεσι τῆς βαφῆς χυμοῖς), истончая шерсть, приводят к тому, что ткани одежд становятся непрочными, а это не полезно для ведения хозяйства» (Paed. II, 10, 111, 1).
Кроме слов с корнем -στυφ- в похожих контекстах Климент использует слово αὐστηρία «резкость, горечь; строгость (harshness, bitterness; severity)» [Lampe 1961: 265] и однокоренное прилагательное. Приведем несколько наиболее интересных фрагментов: «Итак, подстриженные на голове волосы не только являют мужчину строгим (αὐστηρόν), но и делают череп менее уязвимым, приучая переносить и холод, и зной, и отражают проистекающий от того и другого вред; длинные волосы, вбирая его в себя наподобие губки, наносят постоянный вред мозгу от влаги (ἐκ τῆς νοτίδος)» (Paed. III, 11, 62, 1). Вновь «горечь»/«строгость» помогает бороться с избытком влажности. В Новом Завете слово αὐστηρός характеризует человека, отправившегося в дальнюю страну за царством и давшего рабам десять мин (Лк. 19:21, ср. 22).
Музыкальные лады и мелодии также могут быть строгими-горькими и изнеженными-влаж-ными: «Ведь следует допускать целомудренные (τὰς σώφρονας) лады, прогоняя как можно дальше от нашего сильного разума воистину изнеженные (букв. влажные) (τὰς ὑγρὰς ὄντως ἁρμονίας), которые, соблазняя переливами зву- ков, отклоняются в расслабленность и шутовство. Суровые (букв. горькие, едкие) же и целомудренные мелодии (τὰ δὲ αὐστηρὰ καὶ σωφρονικά) сторонятся дикостей опьянения» (Paed. II, 4, 44, 5). Изнеженными-влажными бывают и шаги: «Ведь не <надо вести себя так,> как некоторые женщины, <которые><…> выходят на светскую сцену с этими утонченными движениями, изнеженной поступью (τοῖς ὑγροῖς βαδίσμασιν) и манерным голосом» (Paed. III, 11, 68, 1). Истину же Климент называет «строгой-горькой (αὐστηρά) и почтенной» (Strom. VII, 16, 100, 6).
Результаты нашего герменевтического анализа пассажей с корнем -στυφ- открывают возможности теоретических обобщений в области филологической герменевтики, лексической семантики, мотивологии.
Климент – один из первых христианских авторов, кто стал рассматривать наказание как воспитание, а Бога – как врача, использующего для исцеления грешника разные лекарственные средства. Возможно, такое отношение к вразумляющему наказанию его и следующих ему других церковных авторов повлияло на понимание сущности епитимьи в Восточной Церкви: «В Православной Церкви епитимья понимается как духовное лекарство, которое принимающий исповедь священник как духовный врач назначает кающемуся для уврачевания его нравственных недугов (102-е правило VI Вселенскоrо Собора)» [Давыденков 2020: 417]. Для сравнения приведем слова из католического катехизиса: «The sacrament of penance is an unusual tribunal. <…> It is in the name of Christ that the priest speaks the judgment of the Savior’s mercy <…>» [Albacete, Alma-gno, Aumann and others 1976: 483]. Католический священник рассматривается как судья, кающийся – как обвиняемый, епитимья – как наказание. Итак, отличие восприятия этого таинства у католиков и православных, как и многие другие отличия, коренится в седой древности.
Список литературы Терпкий вкус спасения (к вопросу использования Климентом Александрийским корня --)
- Аверинцев С. С. От берегов Босфора до берегов Евфрата / пер., предисл. и коммент. С. С. Аверинцева. М.: Наука, 1987. 360 с.
- Братухин А. Ю. Загадка имени Климента Александрийского // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2011. № 2(14). С. 123–130.
- Давыденков О., прот. Догматическое богословие: учебник. Изд. испр. и доп. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия: Познание, 2020. 456 с.
- Полякова А. А., Юрина Е. А. Метафоризация вкусовых признаков в русском языке и картине мира // Вестник ТГПУ. 2020. № 2 (208). С. 76–83. doi 10.23951/1609-624X-2020-2-76-84
- Яровая Е. Ю. Лингвокультурологические особенности прилагательных полимодальных ощущений во французском, английском и русском языках // Научные ведомости Белгородского го¬сударственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 12 (209), вып. 26. С. 74–83.
- Albacete L., Almagno R. S., Aumann J. and others. The Teaching of Christ. A Catholic Catechism for Adults / Edited by R Lawler, O. F. M. Cap, D. W. Wuerl, Th. C. Lawler. Huntington: Our Sunday Visitor, 1976. 640 p.
- Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue Greque. Histoire des mots. Paris: Éditions Klincksieck, 1977. Tome IV–1. P. 963–1164.
- Clément d’Alexandrie. Le Pédagogue. Livre I / Introduction et notes de H.-I. Marrou, traduction de M. Harl. Paris, 1960. 298 p.
- Edewaard A. N. Food as Medicine of Body and Soul: Clement of Alexandria’s Dietary Prescriptions in the Paedagogus. A Dissertation submitted to the Graduate School of the University of Notre Dame in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. Notre Dame, Indiana: 2020. 249 p.
- Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Band II. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1970. 1154 p.
- Gabrielsson J. Über die Quellen des Clemens Alexandrinus. Zweiter Teil. Upsala, K. W. Appel-bergs Buchdruckerei, 1909. XI, 490 S.
- Itter A. C. Esoteric Teaching in the Stromateis of Clement of Alexandria // Supplements to Vigiliae Christianae. Texts and Studies of Early Christian Life and Language. Leiden, Boston: Brill, 2009. Vol. 97. XIX, 233 p.
- Lampe G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford: At the Clarendon Press, 1961. XLIX, 1568 p.
- Lanzillotta L. R. Greek Philosophy and the Problem of Evil in Clement of Alexandria and Origen // Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos. 2013. № 23. P. 207–223.
- Liddell H. G., Scott R, Jones H. S. A Greek-Eng¬lish Lexicon / Compiled by H. G. Liddell and R. Scott. A New Edition Revised and Augmented throughout by H. S. Jones. With the assistance of R. McKenzie. Oxford: Clarendon Press, 1996. 2042 p.
- Osborn E. F. The Philosophy of Clement of Alexandria. Cambridge: At the University Press, 1957. XI, 199 p.
- Schmoller A. Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament. Stuttgart: Deutsch Bibelgesellschaft, 1994. 534 S.