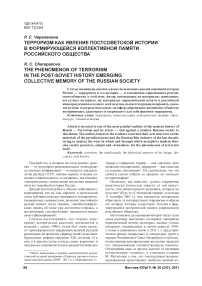Терроризм как явление постсоветской истории в формирующейся коллективной памяти российского общества
Автор: Черепанова Розалия Семеновна
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 30 (247), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одной из самых болезненных реалий новейшей истории России - терроризму и его акторам - и отношению современного российского общества к этой теме. Автор, основываясь на материалах записанных им устных интервью, на материалах периодической печати и российской кинопродукции последнего десятилетия, пытается проанализировать, какими путями и посредством каких метафор современное российское общество воспринимает, адаптирует и «переводит» для себя феномен терроризма.
Терроризм, интеллигенция, историческая память образ, дискурс, устная история
Короткий адрес: https://sciup.org/147150714
IDR: 147150714 | УДК: 94(470)
Текст научной статьи Терроризм как явление постсоветской истории в формирующейся коллективной памяти российского общества
Текущий год, в котором на столь разных уровнях — от популярно-развлекательных телепередач до научных конференций — отмечается двадцатилетие распада СССР, знаково перевел в нашем сознании «современность» в «историю», дав отмашку «историческому» осмыслению последних двадцати пяти лет новейшей истории России.
Двадцатилетний рубеж и обилие «юбилейных» мероприятий, так же, как, впрочем, и зрительский успех публицистических программ и телепроектов, посвященных «девяностым», позволяет нам поймать редкий момент, когда «живая», «автобиографическая» память об эпохе уже достаточно стерлась, а коллективная, «историческая», находится в начале своего формирования1.
Соблазн рассматривать этот период через призму исторических аналогий, прецедентов и моделей с самых 1990-х годов был очень велик: от термидорианского завершения великой русской революции (по аналогии с французской) до великих буржуазных реформ середины XIX столетия. И в том, и в другом случае в числе самых вероятных и ожидаемых сопроводительных реалий оказывались террор и терроризм: террор — как «насилие, применяемое государством», терроризм — как «насилие со стороны оппозиции»2. Не удивительно, что эти сюжеты успели собрать за двадцать лет немалую историографию3.
Поскольку, как известно, «успех» терроризма практически полностью зависит от той известности, того общественного резонанса, которую он получает4 (будь то «Сталинский террор», или атака 11 сентября 2001 г.), мне показалось интересным обрисовать те интерпретации терроризма и образы его акторов, которые существуют сегодня в формирующейся исторической памяти современного российского общества.
Источниками, на основании которых будет идти далее разговор, выступают, во-первых, материалы периодической печати; во-вторых, данные устных интервью, посвященных в целом периоду 1990х годов и записанных мною в 2011 г. с представителями разных возрастных и социальных групп в городах Челябинске и Санкт-Петербурге; в-третьих, отечественная кинопродукция последних двадцати лет, обыгрывающая соответствующую тематику. Отсматривая один за другим далекие от шедевров отечественные «экшены», я утешалась словами М. Могильнер о том, что «малохудожественные» произведения представляют наиболее ценный ис- точниковый материал для исследователя, поскольку являются свидетелями широкой адаптации идей и превращения их в предмет массового потребле-ния5.
В устных интервью «террористическая» тема по понятным причинам (террор принадлежит к классу экстремального и крайне неприятного опыта) является маргинальной. По своей инициативе никто из двадцати пяти (на данном этапе работы именно столько интервью записано) рассказчиков ее не коснулся. Да, собственно, и в кинофильмах террор крайне редко помещается в фокус действия. Чаще всего он находится за плечами у героев и у ситуации, т.е. помещен в прошлое и необходим лишь для дополнительных штрихов к характеру персонажа («Морские дьяволы», «Исполнительный лист», «Мастер»). Такое «умолчание» свидетельствует о длительной нехватке «слов», готовых клише для говорения на щекотливую тему.
В самом деле, достаточно просмотреть августовскую прессу 1999 года, чтобы почувствовать эту полную растерянность и смятение общества от соприкосновения с тем, что не может быть понято, названо, объяснено, переведено.
Столкнувшись с относительно новым явлением, общество не сразу нашло в своей культурной традиции приемлемые формы для его осмысления. Пресса, по горячим следам событий, предложила довольно опасный для общества и еще более опасный для власти вариант переживания этой темы. Вот что писал по поводу взрыва на Пушкинской площади Борис Мурадов: «Мне доводилось находиться и наблюдать за работой обычных полицейских в эпицентре грандиозного пожара в Лиссабоне в 1988 году и на месте одного из терактов, совершенных в конце 80-х годов в Париже. Еще до прибытия «скорой помощи» и пожарных (кстати, куда более оперативного, нежели в Москве) они профессионально оказывали пострадавшим всевозможную первую помощь. На Пушкинской же площади лишь отдельные милиционеры пытались оказать помощь пострадавшим, но в большинстве своем… они были безучастны к происходящему»; «Обезумевшая мать искала дочь. Практически голый взъерошенный молодой человек — свою жену. Этими людьми никто из профессионалов не занимался. Как и теми, кого выносили спасатели и клали на асфальт». Никто из ГИБДД, — продолжает журналист, — не кинулся развести «пробки» и освободить путь машинам спасателей, и многие люди умерли, не получив своевременной помощи. Помещенное тут же фото Дм. Астахова запечатлело женщину в крови и грязи на лице и руках, развернутую влево и к читателю, с отчаянным лицом, ртом, открытым в плаче или крике. Спиной к ее спине, развернутый вправо, стоял спокойный чистый милиционер, бесстрашно смотрящий вперед6. Естественно, такое, остротравматическое и к тому же критическое к власти осмысление террора не могло закрепиться надолго в памяти общества, испытывавшего мучительную потребность преодолеть раскол, воссоединиться снова в некую общность, и если не любить, то хотя бы уважать свое государство.
Столичная интеллигентская газета «Вечерний клуб» опубликовала следующие, крайне типичные для русской интеллигенции, переживания своей журналистки Валентины Пьянковой: «В среду по дороге на работу я не поздоровалась с кавказцем, который каждое утро делает зарядку на школьном стадионе… я не знаю, как его звать и какой он национальности, но года четыре мы с ним по утрам приветствуем друг друга. Ужасно, но на этот раз я не кивнула ему СОЗНАТЕЛЬНО, а он посмотрел на меня как-то ВИНОВАТО»; «Мы устали бояться. Устали сознавать, что никакая милиция или охрана никого не сможет спасти»; во всем виновата, конечно, первая чеченская война, ведь: «Мы в Чечне поубивали столько и стольких, что там, наверное, не осталось ни одного жителя, включая новорожденных, которые не захотели бы или когда-нибудь не захотят отомстить»; «Год назад мы начали разбираться с Чечней, и ответом были страшные взрывы…»; когда мы сейчас сами заведомо подозреваем, видим кавказцев за каждым взрывом — не говорит ли это в нас прежде логики и доказательств наше чувство вины?7
Пронизанная подобными же интонациями истерики и самобичевания программа С. Доренко была снята с эфира, однако довольно пространные выдержки из нее тут же опубликовал еженедельник «Аргументы и факты»: «Взрывы в Москве принесли страх. Страх перед тем как заснуть. Мысли о том, как это будет с тобой, близкими, когда твой дом взорвется. И ненависть. Ненависть не только к террористам, но и ко всем чеченцам вообще. И власть тогда получила от большинства из нас право пролить любую кровь, сделать все, абсолютно все, вплоть до применения ядерного оружия, если бы это помогло, и лишь бы мы могли засыпать спокойно. Именно эти взрывы сделали нас сторонниками повсеместных обысков машин, сумок и карманов»8.
В интервью, записанном уже в 2011 г., девушка 1992 года рождения так описала свои детские впечатления от террористических атак 1999 г.: «взрывы жилых домов в Москве лично меня напугали сильно, я начала бояться того, что с нашим домом может произойти что-то подобное».
Однако сегодня такая эмоциональная напряженность выглядит неким экстремальным исключением. Сегодня ответ на вопрос, помнят ли люди свою реакцию на взрывы жилых домов в 1999 году, дается, как правило, с печальной, но спокойной интонацией и звучит примерно так: «Конечно, помню: это было ужасно, но сам я тогда не боялся, никто из моих знакомых не боялся, никакой взрывчатки на чердаках и в подвалах мы не искали, мое отношение к людям других национальностей после терактов практически не изменилось». Это уже ли личные воспоминания о собственной реакции на событие, о переживании этого события, а некое готовое клише, усвоенное респондентом — островки формирующейся исторической памяти. Прикрывая эту стершуюся личную память, многие респонденты на вопрос об их реакции на теракты отвечали, что эмоционально они в последние десятилетия находятся в состоянии тревоги и страха, но это скорее не страх перед терактами, а общий страх перед опасностями мегаполиса, перед общей непредсказуемостью «нашей жизни» и закономерная реакция на осознание собственной незащищенности перед ней. Анкетирование, проведенное мной в кругу студентов (1991—1992 годов рождения) показало, что на вопрос о терактах ребята в первую очередь называют американское «11-е сентября», и лишь потом, после уточняющих вопросов, упоминают о «Норд-Осте» и Беслане. Точно так же реагируют и многие вполне взрослые собеседники, с которыми записывались устные интервью.
Иначе говоря, реальные воспоминания людей сегодня довольно плотно затерты. Таков нормальный механизм вытеснения травмы. Именно вытеснения, а не забвения. Та же самая девушка, чьи детские воспоминания были процитированы выше, далее продолжает совершенно с другой интонацией: «Захват школы в Беслане поразил, пожалуй, больше всего. Именно после этих событий в нашей школе стали проводить профилактические занятия, появились стенды с подробной инструкцией, поясняющей правила поведения при захвате здания террористами, в общественных местах просили оповещать о подозрительных людях, забытых вещах. Взрыв в Московском метро, который также усилил меры безопасности. Также запомнились взрывы в метро Лондона, теракт в Нью-Йорке 11 сентября. Я помню, что кадры с места событий прервали какой-то бразильский сериал совершенно неожиданно. Однако я не могу сказать, что меня это сильно напугало».
То, что было естественно десять лет назад, как непосредственная реакция на события — живой, неподдельный страх — сегодня воспринимается как что-то неадекватное, неловкое, стыдное. Одна из моих петербургских собеседниц рассказала историю, как однажды, лет пять назад, в полупустом вагоне метро, где она ехала, кто-то спросил, указывая на одиноко стоящую вещь: «Граждане, а чей это пакет?», и повисла мертвая тишина, так что женщина почувствовала, как ее ноги стали «ватными» от страха. При этом, однако, никто из пассажиров не позвонил машинисту, не покинул вагон, и все продолжали следовать до своих остановок.
Итак, за последние десять лет общество проделало большую защитную работу по снятию состояния шока и страха, по переводу этих эмоциональных состояний в некие приемлемые рамки и русла, по отысканию убедительных рационализаций к ним.
Задача отыскания приемлемых для любого травматического явления культурных форм (или, если угодно, задача перевода некоего инокультурного феномена на язык данной культуры) всегда возлагается на искусство, и оно — искусство последнего десятилетия — прежде всего посредством многочисленных приключенческих кинокартин, действительно, в меру своих сил и возможностей, предложило обществу более или менее приемлемые варианты «перевода».
Самым распространенным, безусловно, является перевод террора как войны. Это очень близкий и понятный русскому сознанию дискурс. В нем террор маркируется как один из фронтов вечной исторической войны (в фильме «Грозовые ворота» почти навязчивым визуальным лейтмотивом выступает крест русским воинам, павшим в Чечне в 1845 году, и когда в финале от крепости почти ничего не остается, крест русской памяти продолжает непоколебимо стоять), войны против России, в которой объединились Запад и Восток. Следовательно, главным врагом России в этой трактовке предстает враг не внутренний, а внешний («Грозовые ворота», «Офицеры», «Личный номер»), а причина войны никак не связана с проблемами текущей российской политики и имеет вид геополитического противостояния или даже вечной метафизической борьбы добра со злом (финальная рукопашная схватка Лиса с Ужахом в «Антикиллере-2» знаково происходит в некоем темном коридоре, с неясным источником света, с клубящейся пылью и в режиме «смещенного» времени; о вечных нравственных вещах повествует «Пленник» А. Учителя; олигарх Покровский в «Личном номере» — классический пример пост-модернисткого цитирования, новое воплощение Доктора Зло). Даже там, где прямо называется Чечня и присутствуют именно чеченские террористы, обязательно фигурирует «наш», правильный, чеченец («Грозовые ворота», «Личный номер»), а в качестве заказчика террора выступают «заокеанские партнеры», т. е. Запад («Личный номер») или Бен Ладен, т. е. Запад, прикинувшийся Востоком («Антикиллер-2»). Чеченские боевики имеют даже некоторое историческое оправдание (вполне в безобидном духе, из серии: «валите все на Сталина»): бывший советский генерал и бывший боевик Шах, сотрудничающий ныне с федералами, горько вспоминает своего дедушку, представленного к званию Героя Советского Союза за Великую Отечественную войну, но получившего 10 лет лагерей только по причине своей «неправильной» национальности. Такое толкование должно консолидировать социум на теме террора (превращенного в общую Войну хороших парней с плохими, а не в войну национальностей), и тем самым преодолеть мучительную для общественного сознания проблему.
Теме войны не впервой консолидировать российское общество, и в связи с этим отсылка экс-боевика Шаха к опыту Великой Отечественной чрезвычайно знаменательна. Героини «Искупления», спасаясь от бандитов, бредут по глухим лесам, тонут в болоте, болтают о своем, о девичьем, и также не созданы для войны, как героини фильма «А зори здесь тихие», музыкальная тема главного героя фильма «Рысь» напоминает тему М. Таривердиева «Боль моя…» из «Семнадцати мгновений весны», боевики, как нацисты в советских фильмах, гонят русских пленных впереди себя по минному полю, сминают автобусом новогодний лубочный городок с ряжеными (символ русскости), а спрятанный под шубой Деда Мороза коварный враг треплет румяного славянского мальчика по доверчивой щеке, приговаривая с наигранным акцентом — нет, к счастью, не ожидаемые «матка, яйки», но: «С нофым кодом!» («Грозовые ворота»).
Характерным сюжетным ходом для этого варианта осмысления террора (как войны, сплачивающей общество) выступает переход отдельных представителей криминала (хороших плохих парней) на сторону спецслужб, объективно защищающих Добро, хотя по факту иногда бывающих, конечно, и плохими хорошими парнями («Антикиллер-2»). Так, драматизируясь по классическому сюжету о плохом- хорошем, тема террора проходит терапевтическую обработку в общественном сознании, становится «понятной», переваривается и принимается. Начальные следы этой работы, впрочем, можно разглядеть еще в публикациях из еженедельника «Аргументы и факты» за 1999 год, вроде: «Братки, поможем милиции!», рубрика: «Мнение “авторитета”»9.
Второй распространенный заместитель темы террора — бандитизм; поскольку связанный с криминалом террор не имеет национальности, такой поворот снова позволяет избежать постановки вопроса о вине и ошибках в сложившейся ситуации самой России («Гром ярости», «Рысь»).
Наконец, еще одна проекция темы террора представляет его как проявление религиозного фанатизма, или, в более широком смысле, как продукт одурманенного, больного, травмированного сознания («Грозовые ворота»); «Это не люди, это мутанты», — говорит о террористах персонаж фильма «Антикиллер-2», и словно в подтверждении этих слов боевики для разминки тушат, как фокусники, факелы во рту. В этой интерпретации террористы предстают как жертвы (с разной степенью добровольности и осознанности), и именно эта интерпретация террора и террористов (как «подпольных людей», отдающих себя за идею, в том числе религиозную) имеет сильную традицию в России в лице такой ее корпорации, как радикальная интеллигенция. Рахметов, готовясь к Жертве, спал на гвоздях — чеченские боевики тушат во рту факелы. Возможно, именно такая трактовка точнее всего приближается к само-интерпретации террористов. По крайней мере, именно так заявляли о себе террористы, захватившие в заложники актеров и зрителей мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году: «Мы пришли в столицу России, чтобы остановить войну или умереть здесь ради Аллаха», «Нам нет разницы, где умирать», «Клянусь Аллахом, мы хотим умереть больше, чем вы хотите жить» (кадры с этими признаниями боевиков вошли в документальный фильм «Террор в Москве», реж. Дэн Рид, Франция-Великобритания, 2003). Бывшие заложники этой операции в том же фильме приводят слова боевиков: «Мы пришли сюда умирать, и вы умрете вместе с нами». Но самое впечатляющее, на мой взгляд, признание из уст боевиков звучит так: «Мы не террористы. Если бы мы были террористами, мы бы запросили самолет и несколько, там, миллион и еще, долларов»; «Нас никто не жалеет. У нас тоже дети, старики, женщины. Если мы умрем здесь, то это будет еще не все. Нас много, и это будет приближаться». Все это до чрезвычайности напоминает те чувства и настроения, с которыми осуществляли свои атаки русские радикальные интеллигенты XIX столетия, воспринимая собственные действия как реакцию на несправедливые, и, по их мнению, террористические действия властей. Вспомним также, что некоторые женщины-смертницы новейшего времени, по официальным данным, имели неплохое светское образование (работали учительницами, актрисами, например). Очевидно, что советский период значительно способствовал выращиванию национальной интеллигенции на Северном Кавказе, со всеми присущими этой группе миссиями. Этот слой, возмож- но, довольно тонкий, но все-таки имеющий место быть, нельзя смешивать в его самоидентификации и мотивации с криминальными группировками, к нему скорее приложима логика русской радикальной интеллигенции XIX столетия. В этой логике, источник террора располагается во власти, поэтому человеку, подрывающему такое государство в каком-либо его праве или функции (предоставлять защиту своим гражданам, иметь легитимную монополию на насилие), такому человеку естественно ощущать себя жертвой на закланье. Как писал, например, А. Степняк в отношении Веры Засулич: «Засулич вовсе не была террористкой. Она была ангелом мести, жертвой, которая добровольно отдавала себя на закланье…»10 Или, как выразился Николай Морозов: «Трудно жить и бороться за волю, Но легко за нее умирать»11. Аскетично-эсхатологические интенции русского православия, унаследованные русскими народниками, здесь совершенно эквивалентны исламской радикальной эсхатологии, используемой кавказской интеллигенцией.
Думается, именно эта интерпретация терроризма рождает феномен «чеченских правозащитников» в среде русской интеллигенции, не забывшей еще свои истоки и свои классические книги. В самом деле, общим фоном для терроризма Нового и Новейшего времени почти всегда выступает трагедия патриархального общества (со-общества), сталкивающегося с проблемой модернизации12.
К моменту, когда эти три выделенных мною варианта «перевода» террора были представлены на межвузовской конференции «Проблемы истории российского социума» (Челябинск, ЮжноУральский институт управления и экономики, 31 мая 2011 г.), мне встретилась статья А. Шмида, утверждающая, что терроризм, в зависимости от контекста, может располагаться, представлять себя (и, соответственно, быть рассмотрен) в рамках и через призму преступления, политики, войны, пропаганды (коммуникации, идеологии) или религии13, т.к. любая религия имеет радикально-нигилистские к земному миру, «миру зла», потенции и содержит идею искупительного жертвоприношения, а сам террорист «живет не в мире, а в мифе»14; да и вообще, террористическое насилие есть в значительной степени насилие символическое15. Отталкиваясь от этой схемы, можно сказать, что, по-видимому, современное российское общество объединяет в единый блок идеологические и религиозные истоки терроризма, не видя между ними особой разницы (в немалой степени потому, что за террористами 1990-х не стоит столь же яркая социальная идея, которая стояла за террористами 1870-х и могла быть успешно пропагандируема), а также имеет тенденцию игнорировать его прочтение, как формы политического противостояния. Последнее, возможно, связано как с длительными авторитарными традициями русской истории, так и с целенаправленной идеологической работой власти. Прочтение терроризма как политического конфликта было отчетливо слышно в публикациях прессы 1990-х годов (в том числе уже цитированных в этой статье), но в сегодняшней версии коллективной памяти оно занимает маргинальное положение, поскольку сводится к обвинениям в адрес властей. Мои респонденты, на вопрос о причинах терроризма, в восьми случаях из двадцати пяти отвечали: «это криминал», в пяти случаях: «не знаю, не могу это объяснить», в восьми случаях они видели в терроризме продукт деятельности иностранных держав против России, и, наконец, только четыре респондента (трое из Санкт-Петербурга, один из Челябинска) склонны были видеть заказчиками терактов людей из государственных структур.
Как видим, в целом, политический аспект терроризма в сегодняшнем сознании россиян значительно потеснен «внешнеполитическим» и сводится к уже упомянутому дискурсу «вечной войны против России». «Мне кажется, — прямо заявляет совсем молодой респондент, 1993 года рождения (и его молодость очень ценна, поскольку он явно воспроизводит не свою личную, а «общую», усвоенную им, «коллективную» память), — что многие террористические акты не могли быть организованы без участия самого развитого государства — США».
Формирование исторической памяти не нужно представлять как исключительно спонтанный, стихийный и бессознательный процесс — он, завися от многих факторов, вместе с тем вполне поддается регулированию и корректированию, что относимо, разумеется, не только к российской истории, хотя именно так была в свое время сформирована память об отбросившем нас на столетия назад монгольском иге, или о Петровских реформах, или о Великой Октябрьской социалистической революции. Сегодня в формирующейся коллективной памяти о девяностых годах — символической и, как и полагается, весьма свободно обращающейся с фактами — терроризм занимает свое «условное» место, приобретая простые и понятные массовому сознанию формы, рационализации, мотивировки, используя и адаптируя «под себя» многие старые образы, мифологемы и привычные культурные формы.
Список литературы Терроризм как явление постсоветской истории в формирующейся коллективной памяти российского общества
- Хальбвакс М. Коллективная и историческая память//Неприкосновенный запас. -2005. -№ 2-3 (40-41)
- Репина Л. П. Коллективная память и мифы исторического сознания//Сотворение истории. Человек-память-текст: цикл лекций/отв. ред. Е. А. Вишленкова. -Казань, 2001.
- Будницкий О. В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX -начало XX вв.). -М.: РОССПЭН, 2000. -С. 10
- Рудницкая Е. Л. Русский бланкизм. Петр Ткачев. -М., 1992
- История и террор. Первая межвузовская науч. конф.. Вып. 1.: тезисы докладов. -Пермь: Изд-во Пермск. ун-та, 1993
- Одесский М. П., Фельдман Д. М. Поэтика террора и новая административная ментальность: очерки истории формирования. -М.: РГГУ, 1997
- Добаев И. П., Немчина В. И. Новый терроризм в мире и на Юге России. -Ростов н/Д, 2005
- Алиев А. К., Юсупова Г. И. Терроризм как угроза глобальной и национальной безопасности. -Махачкала: Наука ДНЦ РАН», 2010.
- Laqueur W. Terrorism. -London: Weidenfelld and Nicolson, 1977. -P. 135.
- AlexP. Schmid Frameworks for Conceptualising Terrorism//Terrorism and Political Violence. -2004. -Vol. 16. -№ 2. -Summer. -P. 208.
- Могильнер М. Мифология «подпольного человека»: радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. М., 1999. С. 14.
- Мурадов Б. Как это было//Аргументы и факты, 2000. № 33. Сб.
- Пьянюва В. Требуется свежая кровь//Вечерний клуб, 2000. № 33. С. 1-2.
- За что сняли с эфира программу Доренко//Аргументы и факты, 2000. № 37. С 22.
- Аргументы и факты, 1999. № 37. С. 3.
- Семенов В.Л. Метафизика террора//История и террор. Первая межвузовская научная конференция. Вып. 3. Пермь: Изд-во Пермс. ун-та, 1998.
- Alex P. Schmid. Frameworks for Conceptualising Terrorism//Terrorism and Political Violence, 2004. Vol 16, № 2, Summer. P. 197, 210.