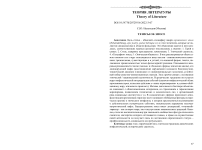Тезисы об эпосе
Автор: Неклюдов Сергей Юрьевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Михаилу Николаевичу Дарвину
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - объяснить специфику жанра героического эпоса (Heldendichtung, epic poetry, poesie heroique и т.д.) тем читателям, которые не являются специалистами в области фольклора. Эти объяснения даются в пяти разделах, соответствующих важным аспектам эпосоведения, а именно: 1. Герой и сюжет; 2. Стиль, жанровое пространство, композиция; 3. Эпический сказитель; 4. «География» эпоса; 5. «Эпическая общность». В них рассматривается объем самого понятия эпос и круг относящихся к нему текстов - книжноэпические памятники; произведения, существующие и в устной, и в книжной форме; тексты, являющиеся принадлежностью только фольклорной традиции. Описываются жанровые разновидности эпоса («малые» и «большие» формы, эпические циклы), его доминирующий пафос (восстановление нарушенного исходного благополучия), тематический диапазон («воинские» и «матримониальные» коллизии), устойчивый набор сюжетно-композиционных звеньев. Эпос прочно связан с осознанием этнической / национальной идентичности. В архаических традициях он остается верен мифологической интерпретации событий (сказочно-мифологический облик противников героя, отнесение действия к «эпохе первотворения» и условно-обобщенному миру эпического прошлого). Мотивы деятельности богатыря объективно совпадают с общеплеменными интересами, со стремлением к гармонизации миропорядка, подавлением хтонических и демонических сил, с организацией ряда социальных институтов и т.д. В «классических» формах происходит демифологизация противников героя (их место занимают обобщенные фигуры исторических врагов) и эпического конфликта, в котором преломляются воспоминания о действительных исторических событиях; максимальное выражение получает патриотический пафос. Распространение эпоса имеет дисперсный, «очаговый» характер - как на карте мира, так и внутри самих национальных традиций. Наконец, столь же исключительна внутри локального сообщества и фигура эпического сказителя, мастерство которого оттачивается годами, а право на осуществление своей деятельности он получает лишь по достижении определенного статуса -профессионального, социального или ритуального.
Эпос, героический эпос, эпическая традиция, архаический, мифологический, исторический, сказитель
Короткий адрес: https://sciup.org/149141345
IDR: 149141345 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-67
Текст научной статьи Тезисы об эпосе
Два года назад на страницах «Нового филологического вестника» была опубликована моя статья «Тезисы о сказке». Она появилась по довольно случайному поводу - из ответов автору одной тематически далекой от фольклора диссертации. Эти ответы содержали попытку объяснить читателям, которые не являются специалистами в данной области, специфику рассматриваемого жанра через описание нескольких важных аспектов его изучения. Такая форма изложения научной проблематики показалась привлекательной и возникла идея продолжить цикл подобных «объяснений», относящихся к некоторым базовым понятиям фольклористики.
Итак, обратимся к эпосу.
1. Герой и сюжет
Прежде всего, договоримся о том, что такое эпос, или, точнее, какие тексты принято так называть ^народный эпос, героический эпос, эпическая

поэзия, Heldendichtung, epic poetry, poesie herotque и т.д.). Сразу исключим из рассмотрения расширенное видовое понимание данного термина, литературоведческое и искусствоведческое - далее речь будет идти только о фольклорных текстах и ассоциированных с ними памятниках.
Круг эпических текстов и традиций довольно широк: это книжно-эпические памятники - шумеро-аккадские (включая их хеттские и хурритские версии), древнегреческие, древнеиндийские, средневековые германские и романские; устный и книжный тюркский, монгольский, тибетский эпос; устный эпос народов Северного Кавказа и Закавказья, карело-финские руны, южнославянский эпос и русская былина, эпос некоторых народов Сибири (угро-самодийских, тунгусо-маньчжурских и др.), юго-восточной Азии (вьетнамское горное плато Тэйнгуен и Филиппины), южной и западной Африки.
Эти произведения сильно различаются своими размерами, мифологической или историзованной картиной мира, характером исполнения, наличием или отсутствием инструментального сопровождения и т.д. Объединяет же их, с одной стороны, установка на рассказ о событиях героического прошлого, о воинских подвигах, совершаемых защитниками племени / народа / края / родины, а с другой - использование в них общих или, по крайней мере, единообразных поэтических моделей, композиционно-стилистических и сюжетных.
Почти всегда герой эпоса - земной человек, хотя подчас и имеющий родственные или иные связи с потусторонним миром (скажем, пользующийся особым покровительством богов / духов). Обычно это - богатырь, который обладает огромной физической силой и в совершенстве владеет воинским искусством; впрочем, в борьбе с врагом он может также использовать колдовские приемы, прибегать к помощи своих небесных защитников. Его исключительность проявляется еще в детстве, каковое бывает либо в полном смысле слова «богатырским» (ребенок растет не по дням, а по часам, рвет свивальники, ломает колыбели), либо «сказочным» (по модели «низкого героя» волшебной сказки; тогда детство завершается резким преодолением его младенческого убожества). Изредка встречаются сюжеты с героинями-амазонками - как типа «шаманского» (якутское олонхо «Кыыс Дэбилийэ»), так и «романтического» (каракалпакский эпос «Кырк-Кыз»),
Существует достаточно устойчивый набор сюжетно-композиционных звеньев эпического нарратива [Heissig 1979, 12-27; Кузьмина 2005; Ясон 2006, 38-71; Петров 2008, 217-396; Смирнов 2010 и др.], сходство которых не имеет общего и убедительного объяснения. Обычной основой конфликта является чрезвычайно близкая (если не сказать одинаковая) исходная ситуация: независимости человеческого сообщества (этноса, государства), даже самому его существованию, угрожает эпическое чудовище или могучий иноплеменник, имеющий и некоторые демонические черты. Эпический враг вторгается в «наш» мир как агрессор, чтобы завоевать царство героя и овладеть его ценностями; иногда для завязки бывает достаточно лишь высказывания враждебного намерения, даже только подозрения в существовании такого намерения (в таком случае перед нами - «эпос превентивного удара»). Соответственно, эпический герой решает «общественные», общенародные (в архаике - общеплеменные) задачи, зачастую имеющие и конфессиональную окраску. Этим он отличается от сказочного героя, обычно озабоченного только своими личными (в крайнем случае, узко семейными) проблемами.
Если оставить в стороне некоторые редкие и «пограничные» жанровые формы эпоса (из числа самых архаических или, наоборот, балладноновеллистических), то наиболее характерную схему его построения можно свести к следующей четырехчастной структуре: (1) было все хорошо, (2) но случилась беда, напали враги, (3) однако герой истребил или изгнал их, (4) и все опять стало хорошо. Иными словами, финальная гармония тут - скорее восстанавливаемая, чем обретаемая (как в сказке), происходит возврат к начальной ситуации, эпическое время словно бы циклически замыкается в своей исходной точке [Неклюдов 2015, 35^46].
Отсюда - особенная важность презентации начального гармонического состояния мира, благодаря чему объем эпического зачина, посвященного его изображению, может достигать половины всего текста произведения [Неклюдов 2019, 363-366], тогда как финал эпического конфликта, имеющий лишь «подтвердительную» функцию и зачастую представляющий собой описание победного / свадебного пира, как правило, далеко не столь пространен. Изложение же основных событий, от завязки до развязки, разделено на два неравных повествовательных «шага» кульминационным моментом максимального сюжетного напряжения.
Заключенная в эпосе память о событиях героического прошлого, несомненно, является важнейшим фактором поддержания и сохранения этнического сознания и этнической консолидации; базовая семантическая оппозиция «свое - чужое», именно на уровне племенных / государственных отношений, артикулирована здесь сильнее, чем в каком-либо другом фольклорном жанре. Показательно, что по сей день образы национального эпоса могут с теми же целями использоваться в политико-идеологических спекуляциях.
2. Стиль, жанровое пространство, композиция
Преимущественной для эпоса является форма ритмизованная («стихотворная»), иногда перемежающаяся с прозаической, а его наиболее частое исполнение - пение или рецитация («стихотворных» фрагментов, во всяком случае); разрушение метрической основы текста, как правило, говорит о деградации жанра. Стилистическая доминанта эпоса -описание (событий, деяний, объектов), обычно гиперболизированное, тяготеющее к подробной детализации, чем эпос решительно отличается от сказки, ориентированной на динамический рассказ о действии. Вообще, эпос не столь уж богат событиями; показательно, что пересказы сюжетов даже огромных эпопей удается изложить в чрезвычайно корот-

ких текстах - без особенного ущерба для их содержательной полноты.
Эпическая форма предоставляет исполнителю почти безграничные ресурсы развертывания повествования - при том что событийная наполненность соответствующих фрагментов остается более-менее неизменной. Для этого в арсенале певца имеется обширный набор стилистических формул и их постоянных «серий» с устойчивыми комплексами значений. На протяжении десятков, сотен, а то и тысячи строк сказитель способен описывать родной край героя, его жилище, коня и вооружение, пиры, сражения с врагами и т.д. Заметим, что масштаб описываемого объекта / события / деяния может быть и космическим (вселенная), и социальным (племя / государство), и персональным (герой, его собственность, его невеста / жена, его враг).
Есть две наиболее общие классификации эпических традиций: содержательная и формальная. В первом случае речь идет о картине мира - либо мифологической (племенной, архаической), либо квазиисторической (государственной, «классической»), что в свою очередь является проекцией (и презентацией) разных типов общественной памяти о прошлом. При этом, впрочем, в архаическую (мифологическую) картину мира вполне могут включаться воспоминания о действительных персонажах и событиях, а отражение исторических реалий «государственного» эпоса фабули-зируется в полном согласии с моделями мифологического нарратива.
В втором случае основанием для классификации является событийный охват повествования, с чем связана и его композиционная структура, и объемы конкретных произведений. Соответственно, различаются, с одной стороны, «малые», как правило, одно событийные эпические формы и, с другой, «большие», для которых основой сюжетной организации обычно является жизнеописание героя, точнее, главные события его «богатырской биографии»: рождение, детство, первый подвиг, сватовство и женитьба, похищение и возвращение жены, иногда - рождение сына. Корреляции с объемами текстов весьма подвижны в разных традициях: если «большие» эпические формы включают от нескольких тысяч до десятков тысяч строк, то размеры «малой» формы могут измеряться и десятками, и сотнями, и даже тысячами строк.
Интертекстовой формой жанрового пространства эпоса является эпический цикл, который объединяет в тематические группы отдельные песни (~ сказания), изначально друг с другом не связанные, выстраивает их в логические последовательности, дополняя интегрирующими сюжетно-мотивными блоками (каузальными, пояснительными, детализирующими). Основой для этого может стать место или событие, которому народная память придает особое историческое значение (осада Трои, битва Ку-рукшетре, сражение на Косовом поле), либо фигура центрального героя, точнее, героя, становящегося центральным и обретающего «богатырскую биографию» именно благодаря данному процессу (Илья Муромец, Марко Кралевич, Сослан / Сосруко, Джангар), причем следует различать биографическую фабулу в архаических сюжетах, типа «богатырской сказки», и в более позднем биографическом связывании «малых» эпических форм («малых» скорее по охвату событий, чем по объему).
Другой тип циклизации объединяет уже сложившиеся «малые формы» вокруг эпического центра (былинный Киев, нартский нихас, утопическое царство Бумба) и «эпического владыки» (в фигуре которого могут отразиться народные представления о реальном или мифологическом государе «славного прошлого»). Признаком такого цикла - в отличие от «биографического» - остается незначительность (или даже полное отсутствие) сюжетных связей между отдельными песнями. Вспомним также ряд специфических тем, вокруг которых циклизуются эпические сказания в африканских традициях: миграции и обустройства на новых землях в сказаниях о Лианжа, борьба рыбаков сорко за речные угодья Нигера в цикле о Фа-ране, биографические обстоятельства суданского Сундьяты и зулусского Чаки [Котляр 2018, 212, 188-189]; кстати, жизнеописание Чаки весьма напоминает легенды о древних объединителях центральноазиатских племен, начиная с хуннуского Модэ.
3. Эпический сказитель
Все жанровые формы фольклора по характеру их бытования могут быть условно разделены на две группы: общераспространенные и «очаговые». Резкой границы между ними нет, во многом она зависит от социокультурной ситуации в конкретном регионе и внутри конкретной исторической эпохи - под ее влиянием представленность устных текстов и обрядовых практик может сильно меняться, распространяясь шире, либо, напротив, сохраняясь лишь в виде редких островков в общем пространстве народных традиций.
Весьма устойчив, однако, «очаговый» характер тех форм, которые вообще никогда не бывают равномерно распределены на карте фольклорных диалектов того или иного этноса. Для них требуются особые условия - как в практическом, так и в идеологическом плане, но главное - специальные люди, которым делегируется осуществление презентации, хранения, передачи этих форм и которые способны эту роль выполнять.
Согласно П.Г. Богатыреву [Богатырев 1971, 384-386], формы народной культуры делятся на «активно-коллективные» и «пассивно-коллективные». В первом случае каждый член данного сообщества способен воспроизвести тот или иной фольклорный текст (и имеет на это право) - разумеется, сообразно своей социальной роли, полу и возрасту; в таком смысле здесь активен весь коллектив. Во втором случае коллектив пассивен, а воспроизведение определенных текстов доступно исключительно специалистам, которые не появляются где угодно, внезапно и случайно. Их мастерство оттачивается годами, а право на осуществление своей деятельности они получает лишь по достижении определенного статуса, профессионального, социального или ритуального. Это предполагает не только наличие у такого человека необходимых способностей (голосовых данных, особого психического склада), но также присутствия «школы» передачи мастер-
ства, существующей далеко не везде и не обязательно институционализо-ванной.
Все сказанное в полной мере относится к эпической традиции. Эпический сказитель есть особый человек, посвящающий свою жизнь этой деятельности - добровольно или по некоему сверхъестественному принуждению. Зачастую подобный выбор обрекает его на разные бытовые неустройства, бездетность, бессемейность, бродяжничество, нищенство, а сам процесс получения дара, обычно совпадающий и с мистическим обретением репертуара, происходит в болезненных, даже мучительных формах, близких к шаманской инициации, «патроном» которой может оказаться дух того самого эпического героя, который воспевается в эпосе [Жирмунский 2004, 358-370]. Как правило, это случается с человеком в детском или в отроческом возрасте, без свидетелей - скажем, когда мальчик / юноша присматривает за скотом на дальнем выпасе, после сильной грозы, во сне и т.п. При этом попытка отказаться от навязанного таким образом дара чревата для ослушника бедами и болезнями, что опять-таки совпадает с некоторыми обстоятельствами шаманских инициаций.
Это не исключает того, что юноша, прошедший данную инициацию, должен затем найти себе мастера-наставника в избранном ремесле, чтобы практически перенять от него приемы и навыки исполнения эпоса - подчас только такое ученичество дает начинающему сказителю право выступать перед аудиторией. На подобный дебют тоже может потребоваться благословение учителя, берущего, таким образом, на себя роль еще одного «патрона инициации». Можно сказать, что, если потусторонний персонаж, наделяющий сказительским даром, осуществляет «входное» посвящение будущего певца, то наставник, от которого ученик усваивает саму технику исполнительства, завершает инициацию «выпускным», сертифицирующим актом. В некоторых случаях благословить на сказительскую деятельность правомочно и другое лицо, просто авторитетное в данном сообществе. Наконец, в сказительских школах «классического» фольклора первая, мистическая фаза подобной инициации может и совсем отсутствовать.
4. «География» эпоса
Экстраординарность устного эпоса на фоне прочих устных жанров не сводится к феномену эпического сказительства как особой сферы высокого фольклорного профессионализма. Дело еще и в «очаговом» бытовании данного жанра. Как уже отмечалось [Земцовский 2008, 18-20], не бывает так, чтобы песни народного эпоса исполнялись или просто были известны во всех устных традициях данного народа. Обычно школы эпического сказительства имеют локальный характер, получая развитие только в определенных местах, как, например, онежские и печорские былины в русском фольклоре, ойратские эпические традиции в западной Монголии, эхирит-булагатские традиции у усть-ордынских бурят и т.д. В то же время на прочих территориях данной этнической культуры подобные тексты встречаются лишь эпизодически, если вообще встречаются [Миллер 2015,
111-154; Дмитриева 1975]. Хотя по отдельным историческим свидетельствам можно понять, что в некоторых регионах раньше они были распространены несколько (даже значительно) шире, все же нет оснований предполагать, что когда-либо их исполнение было повсеместным - как это происходило с большинством «активно-коллективных» форм.
Известно, что эпос лучше сохраняется в тех местах, где патриархальная старина менее затронута модернизирующими культурными влияниями, однако это еще не дает исчерпывающего объяснения «очаговому» характеру его бытования. Не существует, скажем, устойчивой корреляции между особым расцветом эпической традиции и малым распространением или полным отсутствием в данном регионе книжной культуры - так, грамотность северных русских сказителей [Астахова 1962, 281-332; Новиков 2000, 267-348; Новиков 2001] может быть более высокой, чем в других регионах, где былинная традиция отсутствует совсем; то же касается религиозной ситуации, в том числе доминирующей конфессии, которая может занимать по отношению к эпосу разную позицию, как лояльную, так и враждебную, репрессивную. По-видимому, речь должна идти о сочетании нескольких факторов, природа которых пока в полной мере не выявлена.
Сугубо ареальный характер имеет и представленность эпического жанра на карте мира. Далеко не во всех национальных традициях существует живое исполнение устного эпоса или, предположительно, существовало раньше, о чем могут свидетельствовать упоминания его сюжетов и персонажей в исторических памятниках или сохранившиеся книжно-эпические тексты (древней Греции, Индии, средневековой Европы и т.д.). Многим народам этот устный жанр вообще неизвестен, а в их письменных литературах, включая весьма значительные по объему и возрасту, нет никаких следов его былого присутствия.
Бытование эпоса в настоящем или в прошлом отмечено в некоторых областях Европы, Месопотамии, Малой Азии, Кавказа, Сибири, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, Западной и Южной Африки, однако его традиций нет и, вероятно, никогда не было у арабов, китайцев, корейцев, японцев, у большинства народов Индокитая, на значительной части Сибири, Северной и Восточной Африки, в Европе - у итальянцев, венгров, западных славян, украинцев, белорусов, прибалтийских и некоторых других народов. Наконец, полностью отсутствуют эпические традиции у аборигенов Нового Света - Северной и Южной Америки, Океании, Австралии, Новой Зеландии.
В известном смысле эта картина загадочна. Как и в случае с «очаговым» характером эпической традиции на карте национального фольклора, здесь также нет доказательных объяснений подобной неравномерности. Не удается найти никаких системных корреляций между специфической предрасположенностью народной традиции к развитию эпических форм и какими-либо особо благоприятными внешними условиями для них (природными, хозяйственными, социокультурными), либо, напротив, отсутствием таковых в других местах.
Надо отметить, что будучи прочно связан с осознанием этнической / национальной идентичности, с опорой на коллективную память о героическом прошлом именно данного племени / народа, эпос, в отличие от сказки, относительно редко переходит из одной традиции в другую, хотя такие случаи, конечно, есть («Гесер», «Алпамыш», «Кёроглы» и др.), однако чаще подобный процесс сопровождается утратой эпической формы и переходом в прозаическое предание или сказку [Астахова 1948; Жирмунский 1974, 168-188; Lorincz 1970, 141-145]. При этом не следует относить к категории заимствований реализацию в эпосе одних и тех же «бродячих сюжетов» (бой отца с сыном, муж на свадьбе своей жены, инцест брата и сестры и т.п.), которые могут разрабатываться в самых разных фольклорных жанрах (сказках, балладах и т.д.).
5. «Эпическая общность»
Географическое распределение на карте «очагов» эпических традиций (там, где они присутствуют) дает основание говорить о двух типах эпической общности: региональной и этнолингвистической.
В первом случае речь идет о нескольких полиэтнических регионах (например, балканском или северокавказском) с их национальными фольклорно-эпическими традициями, имеющими в своем составе одни и те же или очень сходные жанрово-тематические комплексы [Халанский 1893-1896, III, 735-741; Тресков 1963]. Повышенная проницаемость межкультурных «мембран» здесь обусловлена, по-видимому не только длительным и тесным соседством, но также относительной однородностью социально-экономического уклада и иногда - конфессиональной близостью; все это при определенных обстоятельствах может до поры до времени приглушать национальные антагонизмы, особенно благодаря складывающемуся в таких условиях двуязычию - и лингвистическому, и культурному [Halwachs 1993, 71-90]. «Он пел, ориентируясь на слушателей, которым надо было угодить - иначе бы не заплатили. Поэтому туркам он пел мусульманские песни или песни собственного сочинения, но так, что в них побеждали мусульмане. Среди своих, т.е, в обществе сербов, он пел сербские песни» [Лорд 1994,31].
Во втором случае мы имеем дело со сходными эпическими традициями у народов одной языковой семьи, причем подобное сходство обнаруживается на уровнях и содержательном (наличие тождественных тематических блоков), и стилистическом (близость или совпадение формульного строя), и даже на уровне ономастических ресурсов (от сходных принципов именования мест и персонажей до общей базы антропонимических компонентов). Это допускает постановку вопроса о генетическом родстве таких традиций, их развитии из единого эпицентра и дальнейших ветвлениях. Подобное рассмотрение применимо, однако, по отношению далеко не к каждой этнолингвистической общности - эпические традиции в них могут иметь достаточно «островной» характер, а также слишком сильно различаться по своей структурной организации, тематическому и стили- стическому составу, что не позволяет ставить вопрос об их прямом родстве. Трудно, скажем, установить подобную связь среди традиций славянских (между русской былиной и юнацким эпосом [Халанский 1893-1896; Путилов 1971; Путилов 1999; Смирнов 1974]) или иранских (между осетинской версией нартского эпоса, курдским «Златоруким ханом», таджикским «Гургули» и персидским «Шахнаме», точнее, вошедшими в этот свод богатырскими сказаниями).
Список литературы Тезисы об эпосе
- Астахова А.М. Народные сказки о богатырях русского эпоса. М.; Л.: Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1948. 116 с.
- Астахова А.М. Русский былинный эпос на Севере. Петрозаводск: Изд-во АН СССР, 1962. 396 с.
- Богатырев П.Г. Активно-коллективные, пассивно-коллективные, продуктивные и непродуктивные этнографические факты // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. С. 384-387.
- Дмитриева С.И. Географическое распространение русских былин. По материалам конца XIX - начала XX в. М.: Наука, 1975. 113 с.
- Жирмунский В.М. Легенда о призывании певца // Жирмунский В.М. Фольклор Запада и Востока. Сравнительно-исторические очерки / сост. Б.С. Долгин, С.Ю. Неклюдов. М.: ОГИ, 2004. С. 358-370.
- Жирмунский В.М. Сказание об Алпамыше и богатырская сказка // Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л.: Наука, 1974. С. 117-190.
- Земцовский И.И. Еще одна эпическая универсалия? // Живая старина. 2008. № 1. С. 18-20.
- Котляр Е.С. Фольклор народов Тропической и Южной Африки // Фольклор: структура, типология, семиотика. 2018. Т. 1. № 1-2. С. 177-201.
- Кузьмина Е.Н. Указатель типических мест героического эпоса народов Сибири (алтайцев, бурят, тувинцев, хакасов, шорцев, якутов). Экспериментальное издание / отв. ред. Н.А. Алексеев. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 1381 с.
- Лорд А.Б. Сказитель / пер. с англ. и коммент. Ю.А. Клейнера, Г.А. Левин-тона. М.: ГРВЛ - Наука, 1994. 368 с.
- Миллер В.Ф. Наблюдения над географическим распространением былин // Очерки русской народной словесности. М.: Институт русской цивилизации, 2015. С. 111-154.
- Неклюдов С.Ю. Поэтика эпического повествования: пространство и время. М.: Форум, 2015. 214 с.
- Неклюдов С.Ю. Фольклорный ландшафт Монголии: Эпос книжный и устный. М.: Индрик, 2019. 592 с.
- Новиков Ю.А. Сказатель и былинная традиция. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. 373 с.
- Новиков Ю. Былина и книга. Аннотированный указатель зависимых от книги и фальсифицированных былинных текстов. СПб.: Европейский дом, 2001. 224 с.
- Петров Н.В. Указатель эпических сюжетов // Петров Н.В. Богатыри на русском Севере: Сюжеты и ареалы бытования. М.: Ломоносовская библиотека, 2008. С. 217-396.
- Путилов Б.Н. Русский и южнославянский героический эпос: Сравнительно-типологическое исследование. М.: Наука, 1971. 315 с.
- Путилов Б.Н. Экскурсы в теорию и историю славянского эпоса. СПб.: Петербургское Востоковедение, 1999. 288 с.
- Смирнов Ю.И. Былины. Указатель произведений в их вариантах, версиях и контаминациях. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 278 с.
- Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции: Проблемы эволюции. М.: Наука, 1974. 264 с.
- Тресков И.В. Фольклорные связи Северного Кавказа. Нальчик: Кабардино-балкарское книжное издательство. 1963. 343 с.
- Халанский М. Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса. Сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа. Ч. I-IV Варшава: Тип. Варшавского Учебного округа, 1893-1896.
- Ясон Х. Модели и категории эпического нарратива // Проблемы структурно-семантических указателей / сост. А.В. Рафаева. М.: РГГУ, 2006. С. 38-71.
- Lörincz L. Übergangskategorien zwischen den Heldenliedern und den Heldenmärchen // Acta Orientalia. 1970. № 32. S. 141-145.
- Halwachs D.W. Polysystem, repertoire and identity // Grazer Linguistische Studien. 1993. Bd. 39-40. P. 71-90.
- Heissig W. Gedanken zu einer strukturellen Motiv-Typologie des mongolischen Epos // Die mongolischen Epen. Bezüge, Sinndeutung und Überlieferung (Ein Symposium). Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1979. S. 12-27.