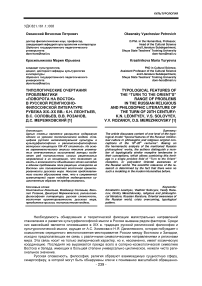Типологические очертания проблематики «поворота на Восток» в русской религиозно-философской литературе рубежа XIX-XX вв.: К. Н. Леонтьев, В. С. Соловьев, В. В. Розанов, Д. С. Мережковский
Автор: Океанский Вячеслав Петрович, Красильникова Мария Юрьевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является раскрытие содержания одного из уровней типологической модели «Специфика русской интеллектуальной культуры в культурфилософских и религиозно-философских авторских концепциях XIX-XX столетий». На основе герменевтического анализа текстов упомянутых отечественных мыслителей авторы выделяют ряд типологически схожих рецептивных направлений в их концепциях, что позволяет заявить о возможности объединения этого наследия в едином проблемном поле рецепции «поворота на Восток» или поливалентной восточной ориентированности русского мира. Новизна представленного опыта обусловлена тем, что в современной гуманитарной науке подобное моделирование существенным образом не предпринималось.
Константин леонтьев, владимир соловьев, василий розанов, дмитрий мережковский, религиозно-философская литература, русская словесность, восточная ориентированность русского мира, преодоление кризиса, типологическая модель
Короткий адрес: https://sciup.org/14933894
IDR: 14933894 | УДК: 821.161.1;
Текст научной статьи Типологические очертания проблематики «поворота на Восток» в русской религиозно-философской литературе рубежа XIX-XX вв.: К. Н. Леонтьев, В. С. Соловьев, В. В. Розанов, Д. С. Мережковский
Необходимость обнаружения и теоретической фиксации магистральных направлений становления и развития культурфилософской мысли в России вызвана рядом факторов. Среди них важнейшей является сложившаяся в XIX в. традиция русской религиозной философии и культурологической мысли, идущая от А.С. Хомякова и Н.Я. Данилевского, которая побуждает к осмыслению серединного местоположения-месторазвития России между Востоком и Западом, исходно предполагающих ее связь с различными символическими направлениями и регионами мира. Эта связь носит не только эмпирический характер, но и, несомненно, имеет космическую координацию. Последняя же выражается прежде всего в солярно-космологической символике Востока и Запада, имеющих в большей степени универсально-циклическое, нежели чисто региональное значение.
Русская словесность, философия, религия образуют взаимоединую сущностную сферу, синергосферу, в которой могут быть обнаружены ключи к пониманию масштабной обращенно-- 239 - сти русского мира на Восток. Хотя очевидно, что грандиозная продвинутость русского мира на Восток была бы немыслима без предварительных дорог в противоположном направлении, проложенных в замыслах Чингисхана.
Опыт, представленный в настоящей работе, есть опыт типологического моделирования, в котором анализируются семантические, религиозные, мифологические и культурфилософские составляющие ментального «поворота на Восток», зафиксированные в комплексе работ важнейших для русской культурфилософской мысли авторов, с именами которых связаны уникальные культурологические концепции. Каждая из этих концепций раскрывает разное, индивидуально-авторское видение заглавной проблемы, выражающееся в раскрытии коренных религиозно-мифологических оснований восточной ориентированности русского мира, в аналитическом осмыслении его социально-исторической устремленности к восточному типу бытия, в утверждении геокультурной восточной доминанты русской культуры, или в критическом восприятии исторического и культурного движения на Восток.
Важно отметить, что типологические очертания проблематики «Поворота на Восток» являются частью более крупной универсалии, а именно - типологической модели «Специфика русской интеллектуальной культуры в культурфилософских и религиозно-философских авторских концепциях XIX-XX столетий», разрабатываемой научной школой «Герменевтика словесности и культуры» изнутри масштабных научно-исследовательских проектов в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы». Каждое имя (концепция), представленные в настоящей работе, есть промежуточный уровень целостного типа рефлексии проблематики «поворота на Восток».
***
К.Н. Леонтьева (1831-1891) можно назвать самым драматичным русским культурологом XIX в., и не даром он неоднократно сопоставлялся с Ницше... Нас будет интересовать прежде всего его труд «Византизм и славянство» [2], где развертывается полемика с Данилевским (которого Леонтьев считал своим учителем), равно как и со славянофильством вообще.
Леонтьеву присуще предельно расширенное понимание феномена эстетического: «Эстетика, как критерий, приложима ко всему, начиная от минералов до человека. Она поэтому приложима и к отдельным человеческим обществам и к социологическим, историческим задачам. Где много поэзии - непременно будет много веры, много религиозности, и даже много живой морали. Надо поэтому желать, чтобы в будущей России (и во всеславянстве) было побольше поэзии, не в смысле писания хороших стихов и романов, а в том смысле, чтобы сама жизнь была достойна хорошего изображения. Эстетика жизни гораздо важнее отраженной эстетики искусства» (Из письма будущему отцу Иосифу Фуделю, 1888 г.).
Методологическая и генетическая близость к славянофилам не мешает ему выступить в качестве более принципиально их полемиста, нежели прогрессисты-западники: «Для того, чтобы отнестись правильно к Ив. Вас. Киреевскому, Хомякову и братьям Аксаковым, надо хорошо изучить, во-первых, Данилевского, во-вторых, надо обратить внимание на те оттенки, которыми отличался Катков от Ив. Аксакова в реформенный период и до конца их деятельности. Потом надо познакомиться со взглядами Герцена на Европу и Россию; наконец, полагаю нелишним обратить внимание и на мои славянофилам возражения, там и сям разбросанные… Данилевский… прямо даже говорит, что прежние славянофилы напрасно впадали в излишнюю ”гумани-тарность“...» [3] - надо, правда, заметить, что сами Данилевский и Леонтьев пошли противоположным путем: «натурализации» и «физикализации» феноменов культуры. Это не менее далеко от подлинного символического миропонимания, лежащего в основе традиционной культурной жизни, как и подстановка на место загадочного кантианского «трансцендентального единства апперцепции» известного «глобального человековейника» гуманистической цивилизации…
Наследуя центральную идею Данилевского о культурно-исторических типах, Леонтьев, однако, развивает свою типологию в полемике с ним и - шире - со всеми славянофилами, о чем свидетельствует уже название его основного культурологического труда - «Византизм и славянство». «Византизм» как принцип религиозной, государственной и культурной жизни противопоставлен здесь «славянству» как началу племенному и, следовательно, низшему и деструктивному, согласно леонтьевской логике (сама «национальная политика» рассматривается автором в одной из его работ «как орудие всемирной революции»!): «Отвлеченная идея византизма крайне ясна и понятна. Эта общая идея слагается из нескольких частных идей религиозных, государственных, нравственных, философских и художественных. Ничего подобного мы не видим во всеславянстве. Представляя себе мысленно всеславизм, мы получаем только какое-то аморфическое, стихийное, неорганизованное представление, нечто подобное виду дальних и обширных облаков, из которых по мере приближения их могут образоваться самые разнообразные фигуры» [4]. Однако, при всей своей неопределенности, славянство представ- ляется Леонтьеву проводником европейского влияния, носителем принципов конституционализма, равенства, демократии, то есть признаков вырождения жизненных сил, по леонтьевской схеме... Вообще XIX в., согласно его пониманию, представляет собой период, не имеющий аналогов в истории: влияние народов друг на друга приобретает глобальный характер, традиционный процесс смены культурно-исторических типов готов прерваться, что чревато глобальной катастрофой, бедствиями, неизвестными доселе людям, которые теперь отуманены «прогрессом» и не видят, как многообразие культурных форм гибнет в «смесительном упрощении». Поэтому учение о культурно-исторических типах, воспринятое Леонтьевым у Данилевского, обретает у него самого эсхатологическую окраску.
Панацея Леонтьеву видится в отдалении от Европы и славянства и сближении с Востоком - однако в конце работы «Византизм и славянство» звучит мотив разочарования в исторических возможностях России вообще, во многом напоминающий чаадаевские настроения: «Молодость наша, говорю я с горьким чувством, сомнительна . Мы прожили много, сотворили духом мало и стоим у какого-то страшного предела...» [5]. В письмах Фуделю Леонтьев говорит еще более горькие вещи: «...нужно ’’творчество’’! А способна ли к нему русская и вообще славянская кровь? Боюсь, что не способна! А впрочем Господь, когда захочет, то не только «из камней», как сказано в Писании, но и из этого подлого славянского теста воздвигнет пророков...» [6]; «...православные греки, православные турки, православные немцы, даже искренно православные евреи - все будет лучше этой скверной славянской отрицательной крови, умеренной и средней во всем, кроме пьянства и малодушия!» [7]. В другом месте Леонтьев говорит, что какой-нибудь православный монгол все будет лучше русского либерала.
В основе леонтьевского пессимизма и разочарования в исторических способностях славян лежит представление о том, что культурам, так же как и людям, отпущен определенный срок жизни - в среднем 1 000 лет. Культуры-долгожители Египет, Китай - многозначительные исключения, объясняемые их изоляционизмом: чем меньше культуры общаются с себе подобными, тем дольше они живут… Вослед Данилевскому, Леонтьев выдвигает идею универсального бытийного закона о трех стадиях существования любых энергосистем во времени: рождение → цветение → гибель; этот процесс необратим во времени, и на уровне культур эти стадии характеризуются им как: «первичная эпическая простота» → «цветущая сложность» → «вторичное смесительное упрощение». Россия, по Леонтьеву, вступила уже в эту последнюю фазу. Мыслитель предсказывает многие метаморфозы ХХ в.: например, псевдореставрацию псевдомонархии на коммунистической основе (сталинизм), равно как и то, что философия будет служить этой новой идеологии «как собака»... Впрочем, излишняя натурализация-биологизация культурно-исторического процесса, пневматологического в своей основе, а также чрезмерный культурно-морфологический детерминизм закрывали для Леонтьева иные, не вписывающиеся в его схему возможности… Известна розановская оценка своего учителя Леонтьева как «русского Ницше»; более того, Розанов резонерствовал, что, мол, тот, немецкий Ницше - не настоящий Ницше, а вот, наш, Леонтьев, это - настоящий Ницше! Но если немецкий Ницше черпал утешение в архаической идее «вечного возвращения» - то «русский Ницше» был эсхатологистом до конца последовательным: полное и необратимое уничтожение всего посюстороннего.
В скрытой полемике с леонтьевской историософией появилась небольшая работа В.С. Соловьева (1853-1900) «Византизм и Россия» (1896 г.), где последовательно фальсифицируется диагноз гибели Византии, направленный, как оказывается в ближайшем рассмотрении, на неудачную, в соловьевском прочтении, «клерикальную реакцию против вавилонского типа монархии», представленную «фанатиками московского византизма - Никоном и иже с ним», и панацея автору видится в обличении «византийской точки зрения, что истина не обязывает ».
При всей неизбежной человеческой греховности и пагубной «цезарепапистской» практике социального бытия «ромеев», на которые справедливо указывал Соловьев, едва ли тут правомерно говорить о «точке зрения», якобы лежащей в самом метафизическом основании данной культурно-исторической общности. Испытывая патологическую зависть к духовным и материальным богатствам Византии, откалывающийся от этой цивилизации Запад беспощадно грабил ее на протяжении весьма длительного времени, а впоследствии - навязывал миру искаженную модель реальной истории, которая теперь подлежит не только переосмыслению, но и полному демонтажу - и, прежде всего, в самой западноевропейской мысли.
В.В. Розанов (1856-1919), необычайно заостривший тематику и проблематику пола в религиозной и культурной жизни, считал себя учеником Леонтьева и начинал с апологии христианства. В работе «Место христианства в истории», написанной в самом конце XIX в., он указывает на тот факт, что «два великих племени почти исключительно занимают поприще всемирной истории -арийское и семитическое»; между ними автор подчеркивает «глубокое различие» [8].
Первые «называли себя: arioi – ”cветлые“… любят природу и поклоняются красоте, и, не заглядывая в отдаленное будущее, всецело отдают настоящему свои душевные силы» [9]. Многообразие форм исторической деятельности связано с данными особенностями арийского духа: « Объективность – вот то название, которое всего правильнее определяет этот особый склад души. Ум, чувство, воля – все силы душевные у арийца постоянно направлены на внешнее, на встречу впечатлениям, идущим снаружи . Разум, направленный на внешнее, образует науку и философию, которую мы одинаково находим у всех арийских народов. Опытный и наблюдательный характер – черта, обусловленная только субъективными особенностями арийского духа» [10]. Розанов пытается преодолеть наивный сциентизм ХIХ в., когда пишет, что «если мы так упорно отвергаем местный и временный характер нашей науки, то это свидетельствует только о том, как бессильны мы встать выше своей природы, как не можем подняться над тем, что есть в ней особенного и частного» [11]. Аристотель, называя искусство « подражанием », согласно Розанову, как раз и определил «коренную черту арийской души», ибо «подражать можно лишь тому, что любишь, чем заинтересован». В данном случае перед нами – «воля, направленная на внешнее», «стремление подчинить себе его и регулировать»; поэтому «арийцы создавали государства и устанавливали права»; «наука, искусство, государство – три главные продукта арийского творчества», связанные с его объектоцентрическим психоментальным складом…
Душевно-духовный склад семитических народов, согласно Розанову, «составляет отрицание арийского характера» и «совершенно противоположно ему по направлению»: «… субъективность - основная черта психического склада названных народов. Они никогда не смотрели с интересом на окружающий мир, и у них никогда не возникала наука… Высокое понятие о науке арабов – средневековое заблуждение: медицина у них – из Греции, как и астрономия; алгебра – из Индии; в философии… они не пошли дальше истолкования Аристотеля и отчасти Платона… Во всем – отсутствие инициативы, недостаток творческого начинания» [12]. Обращаясь к другой ветви семитского племени, Розанов углубляет эту мысль: «Если от арабов мы перейдем к евреям, то в древности не найдем у них никакой мысли о научном знании, а в новое время хотя иногда они и обнаруживали высокие способности к науке, но… никогда не являлись инициаторами, творцами новых идей, они только придавали европейской науке характер крайней абстрактности, отвлекали ее от всего единичного и частного. Таково было влияние в ХVII в. Спинозы на философию, и Давида Риккардо в текущем столетии на политическую экономию. В этом абстрактном мышлении, в этом отвращении от наблюдения и опыта сказалась та черта субъективности, то направление душевного созерцания внутрь, а не к внешнему, которое обнаруживается у них… во всем… Из всех искусств только два, музыка и лирика, уже с самого раннего времени процветали у них. Но это есть именно те виды искусства, в которых ничего не воспроизводится, и только выражается; они исключительно субъективны и к ним совершенно не идут слова Аристотеля, что «искусство есть подражание». Если бы какой-нибудь семит, а не грек определял искусство, он верно сказал бы: ”искусство есть выражение внутреннего мира человеческой души“; до такой степени чуждо семитам то, чт о так знакомо и близко арийцам, и арийцам не знакомо то, что так родственно семитам. У семитов даже не зарождалось никогда живописи и скульптуры… Совершенное бессилие семитов к образным искусствам можно проследить у них и в том, чт о есть образного, воспроизводящего и в сфере поэтического слова… Эпоса никогда не знали семиты. У них нет никаких преданий, нет мифологии, нет других воспоминаний, кроме священных и исторических… Вечно возмужалые, не растущие и не стареющие… Вследствие субъективного склада своей души… всегда были безучастны к окружающим людям. Они селились среди других народов и охотно отдавали им требуемое, лишь бы не принимать на себя обязанностей управления и организации» [13]. Радикальная интериоризация и метафизический акустизм, отмеченные Розановым, вполне согласуются с известным «запретом на изображение лица», господствующим у семитических народов и, несомненно, имеющем в древности свой провиденциальный и, между прочим, двойной смысл…
Переходя к центральной идее своего труда и отмечая, что в людях «живет ”дыхание“ Творца нашей природы», автор ставит вопрос: «Почему только семитам… дано Откровение?» Разъясняет он это следующим образом: «По складу своей души арийцы были обращены к внешнему, к физической природе» [14] – напротив, «дух семитов всегда был обращен внутрь себя, не чувствовал природы и отвращался от жизни, один в истории сохранил чистоту свою, никогда не переставая быть только дыханием Божества» [15]. Розанов цитирует XLI Псалом Давида («Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!») и в качестве позднейшей параллели отмечает, что блаженный Августин не нашел успокоения в человеческой мудрости и поэтому обратился к Богу (см. самое начало его «Исповеди»). Как раз «в ответ на такую жажду (!) еврейскому народу было дано Откровение», однако всечеловеческий смысл его не был понят: «Можно привести из Библии много примеров поразительной замкнутости из- бранного народа» – между тем, как «в Боге все народы земные имеют своего Отца, который в милосердии своем печется о заблудших столько же, сколько и о верных, скорбит о них и ищет спасения – эта мысль была совершенно чужда евреям» [16]. Христианство же, проповедуя воплощенного Бога, в коем «нет ни эллина, ни иудея», стало историческим и духовным разрешением этой древней драмы, своеобразно выразившейся в реальном и символическом различии путей ариев и семитов.
В последующий период своего творческого пути, сосредоточившись преимущественно на тематике половой жизни, «русский Фрейд» (как иногда называли Розанова) усомнился в плодотворном воздействии христианства на человечество и написал антихристианскую работу «Темный лик» [17], где утверждается, что во Христе «мир прогорк». И в самой последней розановской работе «Апокалипсис нашего времени» [18] все беды обрушившейся на Россию и человечество Революции приписываются влиянию и развитию христианства – однако же, сам ее автор успел раскаяться, и принял Святые Дары от православного священника.
Религиозно-философские, художественные, публицистические сочинения Д.С. Мережковского (1865-1941) во многом определили круг мотивов, образов и тем, характерных для литературы русского Серебряного века.
Книга Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», в которой автор решительно отклонил общественную проблематику, категорически отверг философский материализм и сурово осудил реализм русской литературы, сводя его к натурализму, стала первой развернутой декларацией декадентства в России. Книга призывала к созданию нового искусства, отражающего прежде всего религиозно-мистическое сознание.
Мережковский, наряду с другими представителями интеллектуальной культуры рубежа веков, исходил из идеи синтеза культур, ориентируясь на художественные культуры классической древности – античности, а также Возрождения в модернистском их преломлении. В работах разных лет мы находим у Мережковского постулирование ряда художественных принципов: во-первых, исторический принцип – обращение к истории далеких эпох с целью их синтезирования, улавливания вечных аналогий, вечных символов; другой принцип – принцип интеллектуализма, высшая красота в искусстве для автора – красота человеческой мысли. Смысл теорий «нового ренессанса» (как часто называл символизм Мережковский) может быть понят через приобщение к ценностям мировой культуры, взятой в самом масштабном измерении. Посредством этого приобщения, считал Мережковский, возможно восстановление сильной личности, возрождение человека. Для него в ХХ в. Бог принципиально необнаружим в человечестве, но имманентно присутствует в индивидуальности. Поэтому личность представлялась ему спасением Бога, а Бог – спасением личности. В культурно-религиозном проекте, предлагаемом Дмитрием Сергеевичем, не только соединяются модернизованное христианство и языческая античность с ее принципом телесности, но и ориентация на ренессансную модель личности. На закате европейской цивилизации, а именно такое эсхатологическое восприятие кризиса культуры характерно для него, Мережковский предпринимал попытку представить эту цивилизацию в ее первоначалах для того, чтобы духовно ее укрепить, реставрировать.
Мережковский не случайно выбирает для своих произведений эпохи крутого перевала и острого кризиса, состояние мира «меж прошлым и будущим». Здесь он исходит от тревог современного ему мира, от своего поколения и от себя, наконец, поскольку смысл истории, считает он, познается, прежде всего, через судьбу индивидуальную и через самопознание.
Проблематика движения на Восток в творчестве Мережковского раскрывается преимущественно в работе «Грядущий хам» [19]. Своеобразным катализатором этой работы послужила статья Герцена «Концы и начала», где лейтмотивом звучит мысль о вырождении Европы и ее культуры в мещанство и пошлость. Однако Мережковский раздвигает границы исследуемых процессов, расширяя топографию и хронологию грядущих событий. Вслед за своим собеседником, Дмитрий Сергеевич видит причины тотального мещанства будущей европейской культуры в торжестве позитивизма как «не только частного научного, но и общего философского и даже религиозного мышления». По мысли автора, такое широкое толкование явления позитивизма приводит к пониманию его роли в мировом процессе «опошливания» мироздания: «Родившись в науке и философии, позитивизм вырос из научного и философского сознания в бессознательную религию, которая стремится упразднить и заменить собой все бывшие религии. Позитивизм, в этом широком смысле, есть утверждение мира, открытого чувственному опыту, как единственно-реального, и отрицание мира сверхчувственного; отрицание конца и начала мира в Боге и утверждение бесконечного и безначального продолжения мира в явлениях, бесконечной и безначальной, непроницаемой для человека среды явлений, середины, посредственности, той абсолютной, совершенно плотной, как Китайская стена, “сплоченной посредственности”, conglomerated mediocrity, того абсолютного мещанства, о которых говорят Милль и Герцен, сами не разумея последней метафизической глубины того, что говорят» [20]. Глубинные же основания позитивного мышления, укоренившись в культуре Китая, транслируются в пространство европейской культуры, считает Мережковский. Это оригинальное для своего времени видение вопроса сближает Восток и Запад в совершенно иной проблемной зоне. Если в современной культурологии достаточно четко заявлена проблема пагубного влияния именно западных механизмов развития культуры, то Мережковский обнаруживает «корень зла» в обезличенной и лишенной Бога мировоззренческой парадигме китайской культуры. «Духовная основа Китая, учение Лао-Цзы и Конфуция - совершенный позитивизм, религия без Бога, “религия земная, безнебесная… Никаких тайн, никаких углублений и порываний к “мирам иным”. Все просто, все плоско. Несокрушимый здравый смысл, несокрушимая положительность. Есть то, что есть, и ничего больше нет, ничего больше не надо. Здешний мир - все, и нет иного мира, кроме здешнего. Земля - все, и нет ничего кроме земли. Небо - не начало и конец, а безначальное и бесконечное продолжение земли. Земля и небо не будут едино, как утверждает христианство, а суть едино, Величайшая империя земли и есть Небесная империя, земное небо, Серединное царство - царство вечной середины, вечной посредственности, абсолютного мещанства -“царство не Божие, а человеческое”» [21].
В этой трактовке совершенно по-иному осмысляются такие, ставшие уже расхожими в культурологии, утверждения, что западный тип культуры ориентирован на ценности научнотехнического развития, прогресса, на приоритет всего человеческого, земного над метафизическими основаниями мира и т.д. В интерпретации Мережковского, тот процесс, что западная культура лишь начинает в XIX в., уже издревле дает богатые плоды в китайской (восточной) культуре. Сама установка китайской культуры на поклонение «золотому веку» есть утверждение религии общественного муравейника, обезличивания и опошления индивидуальностей. Кроме того, «отрекаясь от Бога, от абсолютной Божественной личности, человек неминуемо отрекается от своей собственной человеческой личности» [22]. То позитивное созерцание, которое достигает в Китае, по мнению автора, совершенного состояния, на практике осуществляется в японской культуре, ставшей благодаря слиянию западного технологизма с китайским позитивизмом «авангардом» восточной цивилизации.
Но если «китайский позитивизм» адекватен самой природе Востока, то принятый, но не воспринятый Европой этот позитивизм вступает в конфликт с теоцентрической парадигмой западной цивилизации, разрушая ее внутренние основы. «Некогда источник великой силы, христианство сделалось теперь источником великой немощи, самоубийственной непоследовательности, противоречивости всей западноевропейской культуры. Христианство – эти старые симетические дрожжи в арийской крови – и есть именно то, что не дает ей устояться окончательно, мешает последней “кристаллизации”, китаизации Европы. Кажется, позитивизм белой расы навек попорчен, “подмочен” “метафизическим и теологическим периодом”» [23]. Распределение сил в этом конфликте видится Мережковскому далеко не в пользу западной культуры: «Кто верен своей физиологии, тот и последователен, кто последователен, тот и силен, а кто силен, тот и побеждает. Япония победила Россию. Китай победит Европу…» [24]. Однако «позитивистское» влияние восточной культуры не является актом злой воли, это вообще не есть внешний акт, но процесс, осуществляемый изнутри самой европейской культуры, именно в этом кроется самая главная опасность, поскольку дело не столько в том «что Китай идет в Европу, а в том, что Европа идет в Китай» [25].
Каковы же прогнозы этого движения? Мережковский считает практически безальтернативным будущим итогом этого процесса возникновение новой картины мира, где будет властвовать «всечеловеческий улей и муравейник, сплошная, облепляющая весь шар земной, “паюсная икра” мещанства, и даже не мещанства, а хамства, потому что достигшее своих пределов и воцарившееся мещанство есть хамство» [26].
Выход из этого застывшего «в китайской неподвижности» состояния современной ему культуры Д.С. Мережковский видит в восстановлении подлинно христианской глубины существования. Споря с бакунинским: «Если есть Бог, то человек – раб», - Дмитрий Сергеевич пишет: «Христос открыл людям, что Бог – не власть, а любовь, не внешняя сила власти, а внутренняя сила любви. Любящий не желает рабства любимому. Между любящим и любимым нет иной власти, кроме любви; но власть любви уже не власть, а свобода. Совершенная любовь - совершенная свобода. Бог - совершенная любовь и, следовательно, совершенная свобода. Когда Сын говорит Отцу: не Моя, а Твоя да будет воля - это не послушание рабства, а свобода любви. Нарушить волю Отца Сын не потому не хочет, что не может, а потому не может, что не хочет» [27].
Ссылки и примечания:
-
1. Работа выполнена при финансовой поддержке государства в лице Министерства образования и науки России.
-
2. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. URL: lib.ru/FILOSOF/LEONTIEV_K/wisantism_slavyanstwo.txt (дата обраще
ния: 18.10.2012).
-
3. Там же.
-
4. Там же.
-
5. Там же.
-
6. Леонтьев К.Н. Письмо к свящ. Иосифу Фуделю. URL: az.lib.ru/l/leonxew_k_n/text_0650.shtml (дата обращения: 18.10.2012).
-
7. Там же.
-
8. Розанов В.В. Хрестоматия по религии. Место христиантва в истории. URL:lib.rin.ru/dok/i/18055p.html (дата обращения: 20.10.2012).
-
9. Там же.
-
10. Там же.
-
11. Там же.
-
12. Там же.
-
13. Там же.
-
14. Там же.
-
15. Там же.
-
16. Там же.
-
17. Розанов В.В. Метафизика христианства. Темный лик. URL: www.magister.msk.ru/library/philos/rozanov/rozav020.htm
(дата обращения: 31.10.2012).
-
18. Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. URL: stibiblio.com/biblio/archive/rosanov_apokalisis/ (дата обращения:
31.10.2012).
-
19. Мережковский Д.С. Грядущий хам // Мережковский Д.С. Полн. энциклопедич. собр. сочинений [Электронный ресурс]. М., 2005. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
-
20. Там же.
-
21. Там же.
-
22. Там же.
-
23. Там же.
-
24. Там же.
-
25. Там же.
-
26. Там же.
-
27. Там же.