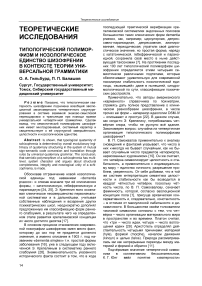Типологический полиморфизм и нозологическое единство шизофрении в контексте теории универсальной грамматики
Автор: Гильбурд О.А., Балашов П.П.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Теоретические исследования
Статья в выпуске: 1 (39), 2006 года.
Бесплатный доступ
Показано, что типологическая кватерность шизофрении подчинена всеобщей эволюционной закономерности четвертичного структурирования в системе взаимной знаково-смысловой перекодировки и трансляции при помощи правил универсальной четвертичной грамматики. Сделан вывод, что семиотический полиморфизм шизофрении имеет многоуровневый, системный характер и свидетельствует о её структурной завершённости, целостности и нозологическом единстве.
Короткий адрес: https://sciup.org/14295103
IDR: 14295103
Текст научной статьи Типологический полиморфизм и нозологическое единство шизофрении в контексте теории универсальной грамматики
Обосновав отграничение новой нозологической единицы под названием «dementia praecox» и описав вначале три её клинических формы, – кататоническую, гебефреническую и параноидную [24, 25], Э. Крепелин ясно осознавал клиническое несовершенство первоначальной систематики и в дальнейшем, учитывая собственные наблюдения и воззрения других психиатрических школ, неоднократно дополнял предложенную им классификацию форм раннего слабоумия, в результате чего на определённом этапе развития крепелиновской концепции их число достигло десятка [17].
В сложном процессе становления современной нозографии шизофрении имел место факт, которому до сих пор не придается должного значения, а именно описание в 1903 г. под названием «dementia simplex» т.н. простой формы заболевания [16], уже в следующем году включённой Э. Крепелиным в систематику раннего слабоумия [26]. Знаменательность указанного исторического факта состоит в том, что в ходе последующей практической верификации кре-пелиновской систематики эндогенных психозов большинство таких клинических форм dementia praecox, как, например, циркулярная, депрессивно-параноидная, депрессивная, ажитиро-ванная, периодическая, утратили своё диагностическое значение, но простая форма, наряду с кататонической, гебефренической и параноидной, сохранила своё место в ныне действующей таксономии [7]. На протяжении последних 100 лет типологический полиморфизм шизофрении определяется этими четырьмя семиотически различными подтипами, которые обеспечивают удивительную для современной психиатрии стабильность нозологической единицы, «выжившей» даже в нынешней, синдромологической по сути, классификации психических расстройств.
Примечательно, что авторы американского «карманного» справочника по психиатрии, стремясь дать полное представление о клиническом разнообразии шизофрении, в числе прочих её форм – наперекор идеологии DSM-IV – описывают и простую [22]. В данном случае, как когда-то Э. Крепелину, потребовалась четвёртая опора, чтобы не рухнуло всё здание. Закономерен вопрос: случайна ли четвертичная организация типологического полиморфизма шизофрении?
В. П. Самохвалов применительно к анализу сновидений и фантазий указывает, что число в них «никогда не бывает случайным, как не бывает случайным число предметов натюрморта, нарисованных художником» [10]. Он же считает, что четвёрка символизирует целостность и стабильность, а применительно к индивидуальному миру – единство личности, разрешение проблем, уверенность. От себя добавим, что в той же системе интерпретации семантика целостности и стабильности как бы возводится в квадрат чётностью четвёрки, поскольку чётность числа, по В. П. Самохвалову, означает феминность, которой, согласно эволюционной концепции пола [1], присуща архаическая консервативность и, следовательно, константность – в отличие от маскулинной лабильности и динамичности. В большинстве своём толкователи числовой символики согласны с тем, что четвёрка – число организации материального мира в пространстве и во времени. Платон считал, что «три – число идеи, четыре – число воплощения идеи» [29]. Аристотель определял действительность четырьмя причинами: материей (hyle), формой (morphe), началом движения (kinoyn) и целью (telos). Природа рассматривалась им как непрерывные переходы между материей и формой и обратно [11].
Подчёркивая значение четвертичной символики в коллективном бессознательном, К. Г. Юнг ввёл понятие «кватерности»
(quaternary) и писал, в частности, следующее: «Кватерность является архетипом почти всеобщего распространения. Она образует логическую основу для любого целостного суждения. Желая воспроизвести суждение подобного рода, неизбежно попадаешь в выражение четырёхкратности… Везде вы натыкаетесь на четыре элемента, четыре первичных качества, четыре цвета, четыре касты, четыре способа духовного совершенства и т. д. По-видимому, существуют также и четыре аспекта психологической ориентации... Для определения самих себя нам необходимо действие, которое устанавливает, что имеется нечто (ощущение); затем другое действие, которое устанавливает, чтó есть нечто (мышление); третье действие или функция утверждает: подходит нам это нечто или нет, желаем мы принять это нечто или нет (эмоции и чувства); наконец, четвёртая функция определяет источник нечто и его направление (интуиция). Когда эти действия осуществлены, сказать больше нечего... Идеал завершённости есть круг или сфера, но её минимальное естественное членение - кватер-ность.» [19]. По Юнгу, архетипы коллективного бессознательного (в т.ч. кватерность), тождественные биологическому понятию «моделей поведения», наследуются генетически [21] и представляют собой всеобщие универсальные предпосылки символически изменённых архетипических образов, формирующихся на основе индивидуального опыта [20]. То есть юнгианские архетипы семантически комплементарны «культургенам» (или «мемам») - видоспецифическим носителям и трансмиттерам негенетически наследуемой информации у человека, существование которых постулируется в социобиологии [28, 15]. Так, фактически посредством грамматики биогенетического закона ква-терность как признак целостности и завершённости транслируется в социобиологическую концепцию генно-культурной коэволюции.
По-видимому, четвертичная система перекодирования информации из одних знаковых систем в другие относится к области т. н. универсальной грамматики - лингвистикоэволюционистской теории, постулирующей «автономность и независимость грамматики от значения» [13]. Согласно этой теории, во-первых, способность человека к освоению любых языков (в т.ч. невербального) является врождённой, генетически предопределённой [27], что свидетельствует о глубинном единстве всех языковых (знаковых, семиотических) систем кодирования информации; во-вторых, -любая интерпретация должна строиться одинаково - по образцу естественных наук. Аналогами законов природы здесь выступают грамматические правила и принципы - автономный и невыводимый синтаксис (в широком понима- нии), задающий формальные структуры, которые, также по некоторым правилам, переводятся в иные знаковые формы и которым по определенным правилам приписывается значение [14]. Согласно постулату Катца-Постала [23], обусловленная перекодировкой знаковая трансформация не меняет начального смысла.
С позиций теории универсальной грамматики четвертичность типологического полиморфизма шизофрении так же неслучайна, как неслучайна четвертичная организация самой человеческой природы, которой свойственны: (1) четыре базисных структурирующих химических элемента (азот, углерод, водород и кислород), (2) кодирование генетической информации посредством четырёх основных дезоксирибонуклеотидов (аденин, тимин, гуанин и цитозин), (3) четыре группы крови, (4) четыре узловых этапа антропогенеза, (5) четыре эволюционно стабильных стратегии поведения (ЭССП), каждая из которых включает в себя четыре метасеман-тических ряда; (6) четыре канала коммуникации (визуальный, аудиальный, тактильный, ольфакторный), (7) четыре уровня знаковоиерархической организации и взаимной трансляции невербального поведения и речи (элементы поведения ↔ слова, простые паттерны поведения ↔ фразы, сложные формы поведения ↔ монотематические фрагменты, поведенческий континуум ↔ целостный политематиче-ский текст), (8) четыре темперамента (меланхолический, флегматический, холерический, сангвинический) [18], в основе которых лежат четыре типа высшей нервной деятельности [8], (9) кватерность «психологической ориентации» [19], (10) четвертичность циркадного (утро, день, вечер, ночь) и биографического (детство, юность, зрелость, старость) времени жизни, (11) территории жизни (север, юг, восток, запад) и (12) природных стихий, влияющих на жизнь (земля, вода, воздух, огонь).
В предыдущих исследованиях, посвящённых социобиологии шизофрении [2—6], нами было установлено, что клиническая и этологическая семиотика каждой из четырёх форм шизофрении также организована по принципу четвертичной метасемантики и уверенно транслируется в социобиологический дискурс соответствующей ЭССП, каждая из которых формировалась на одном из четырёх узловых этапов антропогенеза благодаря дифференцировке очередной клинической формы шизофрении. Сопоставление эволюции шизофрении с эволюцией человека, выполненное на основе сравнения результатов социобиологического анализа различных форм шизофрении и поведения ископаемых гоминид, которые эволюционировали в направлении «H. habilis → H. erectus → H. neanderthalensis → H. sapiens», показало, что нозогенез шизофрении по мере поступательно- го структурирования и семантического усложнения её клинических форм в направлении «кататоническая → гебефреническая → простая → параноидная», способствовал прогрессирующей семиотической гоминизации поведения и психической жизни человека, благодаря расширению репертуара ЭССП в направлении «аго-нальность → кооперация → эгоизм → альтруизм».
Очевидно, что четвертичность структуры шизофрении связана с четвертичностью её функции, т. е. той уникальной ролью, которую она играет в эволюции человека. Целесообразность, эволюционная телеономия шизофрении как семиотической системы может быть понята только в социально-коммуникативном контексте. Любая семиотическая единица, любой знак, любой символ, будь то клинический симптом или поведенческий паттерн, имеют теле-ономический смысл в том случае, если они являются носителями коммуникативной информации между её донором и реципиентом [9, 12] – между человеком, продуцирующим (произносящим, показывающим) некий «месседж» (от англ. «message» – послание, сообщение), и человеком или социумом, этот «месседж» воспринимающим. Исходя из этого, телеономиче-ский смысл перманентного существования шизофрении в человеческом сообществе, символически представленный в коммуникативном «месседже» клинико-этологического текста больных, заключается в консервации и презентации семиотически гоминизированных ЭССП и психического функционирования, которые являются потенциально адаптивными в экологически адекватных условиях. При этом свойственный всем формам шизофрении болезненный механизм внеситуативной гиперритуализации поведения обеспечивает эффект «увеличительной линзы», которая, утрируя и искажая изображение той или иной стратегии, делает его особенно заметным и выпукло- детализированным для социума [2—6].
Таким образом, типологическая кватерность шизофрении подчинена эволюционной закономерности четвертичного структурирования в системе взаимной знаково-смысловой перекодировки и трансляции при помощи правил универсальной четвертичной грамматики. Следовательно, семиотический полиморфизм шизофрении имеет многоуровневый, системный характер и свидетельствует о её структурной завершённости, целостности и нозологическом единстве.