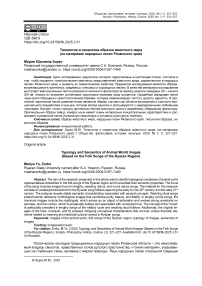Типология и семантика образов животного мира (на материале народных песен Рязанского края)
Автор: Зорко М.Ю.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования, результаты которого представлены в настоящей статье, состояла в том, чтобы выделить типологические комплексы представителей животного мира, закрепленные в народных песнях Рязанского края, и выявить их семантические свойства. Предметом исследования являются образы, встречающиеся в протяжных, свадебных, плясовых и хороводных песнях. В качестве материала исследования выступают малоизученные тексты рязанского песенного фольклора за период начала и середины XX - начала XXI вв. Анализ их выявляет устойчивые смысловые признаки ряда концептов. Свадебная обрядовая песня чаще всего обращена к орнитологическим образам, которые символизируют чистоту, красоту, верность. В протяжной лирической песне доминантными являются образы соловья как объекта восхищения и сильного эмоционального воздействия и кукушки, которая всегда одинока и ассоциируется с неразделенными любовными чувствами. Концепт «конь» присущ протяжным песням воинского цикла и свадебному обрядовому фольклору. Оригинальные образы зайца, комара, мухи имеют очень интересные концептуальные характеристики и раскрывают в рязанской песне уникальную смысловую и историко-культурную тематику.
Образы животного мира, народные песни рязанского края, типология образов, семантика образов
Короткий адрес: https://sciup.org/149148111
IDR: 149148111 | УДК: 398.8 | DOI: 10.24158/fik.2025.3.31
Текст научной статьи Типология и семантика образов животного мира (на материале народных песен Рязанского края)
имеет свою самобытную систему, которая определяет мировоззрение его носителей и формирует их картину мира. Детальное изучение концептов народной песни, которые связаны с миром фауны – это один из способов познать истинную смысловую сущность рязанского песенного наследия, попытка раскрыть его сакральные смыслы, постараться постичь картину мира рязанского крестьянина через систему устойчивых зоонимов.
Исследование преследовало цель репрезентации наиболее распространенных в рязанском песенном фольклоре образов животного мира, их типологизации и анализа основных семантических свойств.
Их изучение осуществлялось на материале протяжных, свадебных, плясовых и хороводных песен Рязанского края.
При проведении данного исследования было проанализировано 112 поэтических текстов народных песен Рязанской области, которые содержатся в источниках, издававшихся в разные исторические периоды и имеющих черты уникальности. Один из них – это песни из репертуара Хора М.Е. Пятницкого, в состав которого входили представители Рязанской губернии (Пронский уезд, ныне – Старожиловский район, села Душкино, Шарово и Куликово)1. Нам интересен этот материал как один из ранних образцов (начало XX в.) нотной фиксации песен исследуемого региона. Второй источник – уникальное региональное собрание песенно-поэтического наследия Рязанской области – материалы экспедиционных исследований кафедры русского языка и литературы Рязанского педагогического института, которые проводились в 50-х гг. ХХ в., результатом которых стал сборник текстов народных песен, сказок и рассказов «Народное поэтическое творчество Рязанской области» 1965 г. издания2. Третий источник – собственные наработки по расшифровке экспедиционных материалов Рязанского педагогического университета, которые были собраны в 1975 г. в Касимовском районе Рязанской области (села Ардабьево, Ласино, Любовниково, Севастьяново) под руководством старшего преподавателя В.В. Большакова, руководившего фольклорными студенческими экспедициями с 1973 по 1984 гг. Эти артефакты в 2009 г. были изданы в виде аудиодисков с текстами песен «Народные песни Рязанской области» в 3 частях при активном участии вдовы исследователя Н.И. Большаковой и поддержке Фонда содействия региону «Достояние»3.
Важно отметить, что несмотря на наличие целого ряда трудов, в которых рассматриваются различные аспекты бытия и своеобразия рязанского песенного фольклора, доля исследований, посвященных проблеме типологического и семантического анализа образов животного мира в рязанской песне, является незначительной, что делает предпринятое нами исследование целесообразным и своевременным.
В результате анализа фольклорных текстов были выделены четыре крупных типологических комплекса образов животного мира: птицы, животные, рыбы, насекомые, каждый из которых включает несколько концептов. Рассмотрим их.
-
1. Птицы:
-
1.1. Голубь (Голубь сизокрылый, Голубь сизенькай, Голубь – золотая голова, Голубушка, Голубка, Сизая голубка, Голубка позолочена, Стадо голубей, Два голубя, Два голубчика).
-
1.2. Соловей (Молодой соловей, Соловьюшек лесной, Соловушка, Соловьи, Соловейка – вольная пташка, Соловушки).
-
1.3. Лебедь (Белый лебедь, Лебедей стадо, Стадо лебединое, Лебедушка, Лебедушка белая, Лебедин, Лебедушка белая).
-
1.4. Сокол (Соколышек, Сокол белый, Соколочек беленький, Сокол ясный, Сокол с перепелкою).
-
1.5. Гусь (Гусак чубарый, Гусыня серая, Стадо гусиное, Серы гуси).
-
1.6. Ворон (Черный ворон, Ворон-вороночек).
-
1.7. Кукушка (Кукушечка).
-
1.8. Орел (Сизой орел, Млад-сизой орел).
-
1.9. Журавль (Вольная пташка – журушка, Вольная журушка).
-
1.10. Иные единичные (Пташки, Перепелушка, Утка, Гоголечек, Ластушки-косатушки, Воробьи).
-
-
2. Животные:
-
2.1. Конь (Добрый-верный конь, Добрый конь, Кони кованные, Вороной конь, Конь с седлом, Ворон конь с золотой уздой, Конь – товарищ родной).
-
2.2. Скотина (Скотинка, Барашек, Овечка, Баран, Корова, Поросята, Чушка).
-
2.3. Пушные животные (Куница, Сорок соболей, Заинька).
-
-
3. Рыбы (Рыбонька, Щука-рыба, Бела рыба, Рыбешка, Бела рыбица).
-
4. Насекомые (Комарик, Комар, Муха, Муха-полятуха).
В исследуемом материале самая большая часть использования зоонимов содержится в свадебных обрядовых песнях, меньшая – в песнях протяжного жанрового корпуса. Поэтические образы птиц являются преобладающими, поскольку, согласимся с А.В. Гурой, они наиболее тесно соприкасаются с народным поэтическим миром (Гура, 1997: 529).
А.В. Алексеев, И.Н. Райкова, А.И. Смирнова также подчеркивают, что «птицы в мировой и славянской мифологии чрезвычайно нагружены, наделены космогоническими, медиаторными, продуцирующими и другими важными функциями» (Алексеев и др., 2019: 9).
Обращение к семантике типов образов начнем с наиболее распространенного. В народных представлениях голубь – это чистая, святая, Божья птица. Любовно-брачная тематика этого образа чрезвычайно сильна и присутствует в фольклоре разных регионов России. Он несет в себе семантику символа искренней, нежной, вечной любви, что подтверждает сопоставление голубя и голубки с женихом и невестой в песнях свадебного цикла:
-
У голубя золотая голова,
-
У голубки позолочена.
-
У нашего Ванюши молодая жена,
Марьюшка Ивановна1.
Образ используется также для обозначения возлюбленных в лирических протяжных песнях: Голубь, голубь сизенькай.
Голубь сизенькай, дружок миленькай.
Эх, дружок миленькай…
Дружок миленькай, ночуй, голубь, у меня2.
Соловей обладает мужской брачной, а иногда и эротической символикой. Как правило, соловей олицетворяет пробуждающееся чувство, зарождение новой жизни. Его пение всегда оказывает яркое эмоциональное впечатление, будоражит кровь. Нередко в песнях героиня просит его не петь, там самым не вводить ее в чувственное состояние:
Ой да, расцвели в поле цветочки.
Ой да, все ракитовы кусты.
Ой да, как под этим под кусточком
Молодой, эх да, соловей громко поет.
Да ты, соловьюшек лесной,
Ой да, ты не пой рано весной3.
Встречается в рязанских песнях и любовный дуэт соловья и кукушки. По преданиям, у этих птиц нет пары, поэтому часто песенный материал указывает на их особую связь и стремление к объединению:
Как на этих на деревушках соловьи сидят.
Соловьи мои, соловушки жалобно поют.
Как со этой со досадушки кукушкой я была.
Кукуй, моя кукушечка, во сыром бору4.
Лебедь – птица, которой приписывают человеческие особенности – лебединая пара всегда моногамна и неразлучна. А.В. Гура и Н.Д. Конаков подчеркивают, что лебедь признавался в народе птицей особо чистой, с ярко выраженной брачной символикой (Гура, 1997: 679; Конаков, 1996: 20). Это подтверждают и рязанские свадебные песни, в которых образ лебедя используется довольно часто, номинируя им как невесту, так и жениха:
Плывет стадо лебединое,
Оно плывет, не трохнется,
Не трохнется, не ворохнется.
Под ним вода не шолохнется.
Где не взялся млад-сизой орел,
Побил он стадо лебединое,
Ушиб, ушиб он лебедушку белую5.
Образ сокола, который «ушиб» белую лебедушку из лебединого стада, транслируется как жених, который взял себе невесту из ее рода. Присутствие поэтического образа «лебедь» в свадебных обрядовых песнях является символом будущего благополучия молодой семейной пары:
А кто ж у нас лебедин?
А кто ж у нас лебедин?
Лебедин мой, лебедин,
Лебедушка белая.
Иван у нас лебедин,
Иванович лебедин.
Лебедин мой, лебедин,
Лебедушка белая1.
Упоминание непосредственно животных в песенном фольклоре Рязанской области является не столь обширным по сравнению с образами птиц, но тоже имеет свои устойчивые примеры. Самым распространенным зоонимом является образ коня, который часто встречается в протяжных солдатских песнях и свадебном обрядовом материале. В зависимости от жанровой принадлежности песенного образца конь наделялся различными свойствами. В протяжной солдатской песне – это всегда друг, соратник, который помогает в непростых жизненных ситуациях:
Об чем задумался, служивый,
Об чем горюешь, молодой?
Аль тебе служба надоела,
Аль заболел твой добрый конь?
Мой конь болезней не боится,
Копытом землю шибко бьет2.
Нередко он приносил весть о гибели хозяина на поле брани его родным:
Помирал наш казак и приказывал коню:
– Уж ты конь, ты мой конь, по дорожке беги!
По дорожке беги к отцу с матерью в дом,
К отцу с матерью в дом, к жене моей младой3.
Такая символическая трактовка образа коня роднит рязанскую военную протяжную песню с южнорусской песенной традицией, где «на первый план выдвигается концептуальный признак “боевое животное”»4.
Конь в песнях свадебного цикла является символом маскулинности жениха, его основательности в материальном аспекте, показателем состоятельности родов:
Поезжай-ка ко свому тестю во двор
На своем добром коне.
Не гляди у тестя по верху,
А привяжи коня ко столбчику,
Сам иди в нову горенку5.
Или:
– Ох, наш Иванушка, грозен, больно грозен,
Грозен – немилостивый.
Он заходит во конюшенку, во двор,
Подседлает свово ворона коня,
Соезжает со широкого двора.
Остановился против тещиных ворот6.
Присутствие концепта «конь» в свадебном обрядовом песенном материале может осознаваться и как символ счастья и удачи, недаром на крестьянских домах нередко имелся «конек» – резная фигурка головы коня, которая соединяла друг с другом противоположные скаты крыши.
Редко встречаются в песнях Рязанской области, но там самым вызывают исследовательский интерес образы пушных животных. В народной поэтике куница наделена женскими свойствами и брачной символикой. В исследуемом материале ее образ встречается один раз, причем в песне троицкого календарного цикла:
Заульнески девки по морену ходили,
Куницу убили, зубами лупили.
Себе шубы пошили, к обедне ходили7.
Можно предположить, что мотив убиения куницы и изготовления из нее шубы символизирует зрелость девушек для вступления в брак. Учитывая тот аспект, что после Троицы на день святых Петра и Павла наступает летний мясоед, во время которого происходило наибольшее число свадеб, логично заключить, что этот поэтический образ является своеобразным «мостиком» к свадебной песенности.
Упоминание «сорока соболей» выступает уникальным примером архаичности рязанской свадебной обрядовой песни при обращении к редкому памятнику древнерусской литературы «Чин свадебный», который был составлен и записан как руководство к проведению свадебного торжества. «Сорок соболей» – это часть дара на свадебном сговоре, который предшествует самой свадьбе и подтверждает собой факт договоренности двух родов о предстоящих брачных намерениях. После улаживания всех материальных вопросов сторона невесты «держит дары» – «тесть одаривает зятя первым благословением – образом, кубком или ковшом, бархатом, камкой, сороком соболей»1.
Упоминание этого обрядового момента содержится в рязанской свадебной песне, когда девушка просит мать не участвовать в «честном пире» – сговоре – и не «пропивать» свою дочь – договариваться о свадьбе, говоря, что материальное нажить можно, а «пропитую» дочь уже не вернешь в семью:
Не ходи ты, маменька, по честным пирам.
Не пропей ты, маменька, молоду меня.
Пропей, пропей, маменька, сорок соболей.
Сорок соболей ты скоро наживешь.
А меня, родимая, вовек не нажить2.
Практика работы в сфере детского музыкального образования в области фольклора позволила нам нередко наблюдать использование в репертуаре детских народно-певческих коллективов народных песен, в которых главным героем является заяц. Однако если обратиться к исследованиям значения образа этого животного в народной песенной поэтике, то можно обнаружить некоторое несоответствие его детской аудитории.
Исследуя многочисленный этнографических материал восточных славянских народов (Русский Север, Болгария, Польша), А.В. Гура характеризовал зайца как ярко выраженный мужской образ, обладающий брачной, эротической и фаллической символикой (Гура, 1997: 177; Сумцов, 1891: 69). Хоровод «Заинька» встречается во многих российских песенных традициях. Есть он и в Рязанской области:
– Где ж ты, заинька, вечор был?
Где ж ты, серая, вечор был?
– В огороде, барин мой, в огороде, душа мой.
В огороде, барин мой, в огороде душа мой3.
Казалось бы, это наивная игровая хороводная песня, но ее сакральные смыслы повествуют о совокуплении, символом которого является заламывание зайцем капусты, где заяц воплощает мужское, а капуста – женское начало:
– Что ж ты, заинька, делала?
Что ж ты, серая, делала?
Капустку ломал, в бороздку кидал.
Капустку ломал, в бороздку кидал4.
Далее, ловушка, в которую попадает заяц, представляется символом брачных уз и потери холостяцкой свободы:
– Ты бы, заинька, на плетень,
Ты бы, серая, на плетень.
– На плетень полетел – боюсь заплутаюсь,
На плетень полетел – боюсь заплутаюсь5.
Исследователи символики образа рыбы в устных народных традициях разных регионов России и зарубежья отмечают многокомпонентность значения этого концепта. Все они говорят о связи семантики рыбы с «нижним», «средним», «верхним» мирами6 (Гура, 1997: 746–758; Ляшенко, Ляшенко, 2011: 53–54). Песенные образцы Рязанской области свадебного цикла, рассматриваемые нами, демонстрируют рыбу как посланника «среднего» мира, мира живущих. В песнях образ является олицетворением девушки, невесты, тем самым выступая символом плодовитости, изобилия, чистоты и плодородия:
Сине море разливалася вода,
Бела рыба разыгралася в море.
Распознали богатые господа,
Раскупали шелковые невода,
Заловили белу рыбицу эту.
Стали рыбешку выспрашивати:
– Каково ж тебе, рыбешка, без воды?
Так и мне, младой, без милого дружка1.
Сюжет ловли иносказательно представляет обряд сватовства свадебного цикла. Рыба, разыгравшаяся в море, – это девица, достигшая брачного возраста. Стоить отметить, что чаще всего в тексте песен фигурирует «бела рыба», «бела рыбица» – ценная крупная рыба семейства лососевых, которая водится в Каспийском море и которая была постоянным блюдом на царских и боярских пирах. Доказано, что происхождение этой рыбы – арктическое. В Каспийское море она попала из Северного Ледовитого океана, пройдя путь с севера на юг по рекам. Регламентация статусности и ценности упоминаемого вида рыбы подчеркивает особый, возвышающий чин свадебной обрядовой песни. Е.А. Самоделова в своей книге «Рязанская свадьба» подчеркивает, что «в рязанском свадебном фольклоре образ рыбы представлен белорыбицей, рыбицей и довольно редок. Тем ценнее его сохранность» (Самоделова, 1993: 130).
Энтомологические образы в исследуемом фольклорном материале представлены комаром и мухой, обладающими характеристиками мужского и женского начал соответственно. Песни, в которых упоминаются эти насекомые, относятся к шуточным. Стилистика, сюжетный строй, форма стиха-однострочника позволяет отнести эти фольклорные образцы к наследию скоморохов. Сюжет неудачной женитьбы комара, пляски с комаром органично встраивается в описание песен-скомо-рошин, данное В.Я. Проппом: «Это песни о веселых происшествиях или о происшествиях, хотя самих по себе не веселых, но трактуемых юмористически» (Пропп, 1964: 63).
Комар и муха – это всегда сатирические персонажи. Комар характеризуется выраженным бахвальством, мнимой воинственностью, заносчивостью. Муха легкомысленна, ее поведение осуждается:
Вот женился комар все на мухе.
Все на мухе-полятухе, неудахе.
Не ткать, не прясть не умеет.
Тока с музыки на музыку лятати,
Из-под краюшку смятаночку лизати2.
Песню такого типа можно смело отнести к скоморошинам, в которых, по мнению З.И. Власовой, «тонко подмечен и точно передан в несколько гиперболизированной форме характерный и понятный психологический оттенок семейных отношений» (Власова, 2001: 333). Кроме того, содержание данной шуточной песни может свидетельствовать и о ее репрезентации как социальной сатиры, которая была неотъемлемой частью творчества скоморохов и называлась «глумы» (Петров, 2015: 20).
Таким образом, мы выделили и проанализировали ключевые зоонимы, встречающиеся в источниках исследования. Установлено, что в большинстве свадебных рязанских песен доминируют орнитологические образы, символизирующие образы жениха и невесты, благополучие, плодовитость и достаток их дальнейшей семейной жизни. Песни протяжного типа чаще всего обращены к образам соловья и кукушки как к символам эмоциональности и в то же время одиночества и печали. В фольклорных образцах воинской тематики доминирующий образ животного – конь, верный друг и соратник служилого человека. Он часто выступает и маскулинным маркером образа жениха в свадебных обрядовых песнях, демонстрируя положительный социальный статус молодого человека, его настойчивость в желании жениться, доминантность по отношению к роду невесты. Редкий, но имеющий периодичность упоминания образ белой рыбы в песнях свадебного цикла репрезентирует невесту как чистую, неиспорченную девушку, как источник новой жизни. Шуточные образы комара и мухи выявляют редкий след творчества скоморохов в рязанской песенности и всегда направлены на изобличение неприглядных черт мужского и женского характеров.
В заключение подчеркнем особую важность исследования образного мира народных песен Рязанской области и значение этнографического фольклорного наследия не только как экзотического и яркого объекта в сценической трансляции современных исполнителей, но и как материала, содержащего в себе базисные нравственно-эстетические принципы и воззрения наших предков.
Список литературы Типология и семантика образов животного мира (на материале народных песен Рязанского края)
- Алексеев А.В., Райкова И.Н., Смирнова А.И. Поэтическая орнитология и искусство слова // Птица как образ, символ, концепт в литературе, культуре и языке. М., 2019. С. 7-17.
- Власова З.И. Скоморохи и фольклор. СПб., 2001. 524 с. EDN: SIKIQT
- Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997. 912 с. EDN: TOHUMH
- Конаков Н.Д. Традиционное мировоззрение народов коми: окружающий мир, пространство и время. Сыктывкар, 1996. 130 с. EDN: VDPGPT
- Ляшенко Н.Ф., Ляшенко Ю.Н. Рыба - знак-символ // Рыбное хозяйство Украины. 2011. № 3. С. 52-56.
- Петров Н.В. Об А. С. Фаминицыне и скоморохах // Скоморохи на Руси. М., 2015. С. 3-28.
- Пропп В.Я. Жанровый состав русского фольклора // Русская литература. 1964. № 4. C. 58-76.
- Самоделова Е.А. Рязанская свадьба: исследование обрядового фольклора. Рязань, 1993. 326 с.
- Сумцов Н.Ф. Заяц в народной словесности // Этнографическое обозрение. 1891. Т. 10, № 3. C. 69-84.