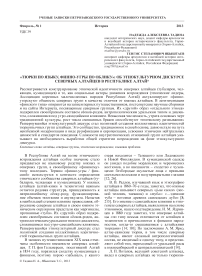«Тюрки по языку, финно-угры по облику»: об этнокультурном дискурсе северных алтайцев в Республике Алтай
Автор: Тадина Надежда Алексеевна, Ябыштаев Тенгис Степанович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (130), 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается конструирование этнической идентичности северных алтайцев (тубаларов, челканцев, кумандинцев) и то, как социальные акторы движения возрождения (этнические лидеры, Ассоциация коренных малочисленных народов Республики Алтай) актуализируют «финноугорскую» общность северных групп в качестве отличия от южных алтайцев. В легитимизации «финского типа» опираются на записи первых путешественников, постсоветские научные сборники и на сайты Интернета, посвященные северным группам. Их «другой» образ «отдельного этноса» подкреплен своеобразным составом сёоков-родов, антропологическим уральским типом и диалектом, сложившимся под угро-самодийским влиянием. Невысокая численность, утрата основных черт традиционной культуры, рост числа смешанных браков способствуют этническому размыванию. Развернувшийся этнокультурный дискурс стал политикой создания коллективных идентичностей тюркоязычных групп алтайцев. Это сообщество, традиционное в своей основе, давно встало на путь неизбежной модернизации в виде русификации и европеизации, усвоения этнически нейтральных ценностей и стандартов поведения. Сложности внутриэтнических отношений групп алтайцев указывают на необходимость выработки общей стратегии возрождения на фоне этнокультурного дискурса.
Алтайцы, северные группы, этническое возрождение, языковая проблема
Короткий адрес: https://sciup.org/14750347
IDR: 14750347 | УДК: 39
Текст научной статьи «Тюрки по языку, финно-угры по облику»: об этнокультурном дискурсе северных алтайцев в Республике Алтай
В Республике Алтай на волне этнического возрождения алтайцев особое значение стало придаваться не языковому родству южных и северных групп, а своеобразному «финскому» типу последних. Термин «финно-угры / финский» используется в контексте определения этнического сообщества северных алтайцев (ту-баларов, челканцев и кумандинцев). У южных алтайцев (алтай-кижи и теленгитов) важным остается родовая структура, принадлежность к патрилинейному сёоку-роду, функционирование обычаев экзогамии и авункулата. Испытав в наибольшей степени влияние православия, обрусевшие северные алтайцы в своем южном этническом окружении предстали как маргиналы, прозванные «туба». Их «другой» образ подкреплен своеобразным составом сёоков-родов, антропологическим уральским типом и диалектом, сложившимся под угро-самодийским влиянием. Развернувшийся этнокультурный дискурс стал политикой создания коллективных идентичностей тюркоязычных групп алтайцев.
В записях путешественников XIX века отмечены особенности внешности северных алтайцев. Г. П. фон Гельмерсен, посетивший Алтай в 1834 году, поразился сходству кумандинцев с финнами, поэтому порою «забывал», у какого озера находится – Телецкого или Ладожского в Новой Финляндии. В кумандинской одежде он увидел подобие мордовских и черемисских костюмов, а во внешности – сходство с чухонцами: безбородые скуластые лица с прямыми светлыми волосами и полуприкрытыми глазами [12; 26].
В. В. Радлов, изучавший язык и этнографию алтайцев в 1860–70-е годы, заметил, что южные алтайцы называют северных « jыш кижи » (лесной человек, таежник) и « туба »: «…здешние туба – потомки древних самоедских дубо» [8; 215]. Его мнение о самодийском влиянии в этногенезе северных алтайцев, выявленном на основе этнонимов, нашло подтверждение. Н. М. Ядрин-цев в 1880 году заметил, что северные алтайцы «по типу весьма отличаются от алтайцев и теленгитов и причисляются к финским народностям, когда-то смешавшимся с алтайскими тюрками» [14; 101]. По заключению А. М. Ярхо, алтае-саянские тюрки, в том числе северные алтайцы, имеют сложный антропологический состав, не сводимый к одному типу, и представляют собой тип, переходный от уральской расы к южносибирской и центральноазиатской [14].
Л. П. Потапов, ведущий советский алтаевед, видел в северных алтайцах не только тюркизи-
рованных самодийцев и угров. В качестве доказательств он отметил общность лодок, ручных нарт, лыж и другого снаряжения северных алтайцев и самодийских народов. К примеру, распашная одежда кумандинцев и челканцев такая же, как и верхняя одежда сургутских хантов [7; 311]. Кумандинцы, как древнейшие жители Алтая, развили культуру на основе скотоводства [5; 322]. Древняя охотничья культура северных алтайцев с ее шаманскими культами связана с самодийской и угорской. Л. П. Потапов осветил древнетюркскую основу культуры северных алтайцев. Умение добывать руду и плавить железо тубалары переняли от древних тюрок [6; 59]. Челканцы, называемые «куу кижи» (люди р. Лебедь, лебединцы), по составу родов ближе к ту-баларам, с которыми имеют экзогамные группы [7; 312].
На основе историко-этнографических сведений формируются взгляды на прошлое. Популярные конструктивистские теории пришли на смену некогда мощной примордиальной концепции, в рамках которой алтайские группы еще в советское время были признаны единым народом. В постсоветский период северные алтайцы обрели статус этноса. Согласно этнонациональ-ному дискурсу, они «не алтайцы», а «другие» – «родня финнам через самодийцев и угров» и имеют «финские корни». В 1993 году кумандин-цы, а затем в 2000 году тубалары и челканцы вошли в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. В связи с этим появилась необходимость обосновать статус нового этноса и тогда на помощь пришел научный мир. Начиная с 2000 года о каждой группе северных алтайцев были изданы сборники статей и извлечений из редких книг [2], [12], [13]. Издания подобного рода стали опорой для конструктивистских идей. Участвующие в этом этнографы стараются обосновать новый статус северных алтайцев, желая «восстановить историческую справедливость», «исправить ошибки советской науки», «уравнять малочисленные группы Северного Алтая». Идею удревнения истоков этногенеза до «куманов и динлинов» можно рассматривать как стремление к архаизации: «В антропологическом типе кумандинцы сохранили европеоидные черты древнего населения Сибири» [2; 3].
На сайте «Кумандинцы на Алтае» освещаются проблемы северных алтайцев. Авторы сайта обнаруживают стремление развить интерес к истории, культуре и языку кумандинцев и донести его до пользователей. Здесь есть иллюстративный материал по культурному наследию ку-мандинцев и содержится множество ссылок на подобные сайты. Презентация трех групп северных алтайцев в интернет-ресурсах представляет размноженную версию. В ней подчеркивается угро-самодийская основа культуры: «…этно- графическое своеобразие материальной и духовной культуры кумандинцев имеет много общего с их северными соседями – хантами, манси, селькупами и кетами» [3]. Истоки этногенеза северных алтайцев прослеживаются в археологических культурах. Такая архаизация должна объяснить особенности физического облика северных алтайцев, в котором «сочетаются черты, свойственные европеоидам и палеосибирским народам уральской расовой группы». На общем фоне сведений иначе расставлены акценты: нет привычного упора на традиционном типе хозяйства и верованиях. Запоминается описание внешнего вида северных алтайцев: «У тубаларов монголоидность основных антропологических признаков выражена гораздо слабее: у них наличествуют европеоидные признаки, т. е. встречаются светловолосые и светлоглазые типы» [3]. Их «правильный» облик, близкий прозападному миру, перекочевал на туристские сайты.
Таким образом, критерием этнической принадлежности у русских является внешность, а у алтайцев – знание родного языка. В результате интенсивной ассимиляции северные алтайцы находятся в промежуточном состоянии: между южными алтайцами, отвергающими их из-за незнания родного алтайского языка, и русскими, не принимающими как людей другого этнического происхождения, иной внешности, хотя и говорящих по-русски [11].
Около трех веков назад расселенные в предгорье северные группы первыми из алтайцев были вовлечены в русскую среду. Они оказались включенными в сложные процессы интеграции в российское государство, и как следствие – в процессы христианизации, которые заключались не только в смене веры, но и в целом комплексе социальных и культурных практик, таких как образовательная политика, формирование новых поселений для новокрещеных. Неслучайно первая интеллигенция сложилась из тубаларов, имена которых составляют гордость национальной культуры алтайцев. Это сказители Н. Улагашев и К. Тадыжеков, общественные деятели П. А. Чагат-Строев и В. Т. Тибер-Петров, династии купцов-меценатов Тобоковых и просветителей-художников Чевалковых. Сегодня потомки обрусевших тубаларов считаются русскими, хотя и носят алтайские фамилии.
В советской этнографической школе ряд положений основывался на эволюционно-историческом понимании этничности. Для научных понятий были найдены алтайские эквиваленты: «сёок» – это род, считавшийся пережитком. В категорию «племя» вошли группы северных и южных алтайцев. Эволюционный процесс должен был привести к распаду «родовых и племенных групп» и объединению их в «народность». Создание этнокультурного дискурса было бы невозможным без общего языка, каким явился южно-алтайский язык, и убеждения об общем происхождении, при этом «финский тип» северных алтайцев был неважен. В рамках примордиальной концепции этнотерриториальные группы были признаны единым народом – алтайцами. Вследствие того что в перспективе все народы страны сольются в единую общность, знание родного языка оказалось неважным. Обрусевшие алтайцы стеснялись говорить на родном языке, особенно в общественных местах. Престижным считалось знать русский язык и говорить на нем без акцента. В 1970-х годах развернулась политика сокращения национальных школ и ликвидации «неперспективных» деревень – исчезли 60 из 80 тубаларских сел [6].
В последние годы введено преподавание алтайского языка с учетом диалектных особенностей. Лишь малая доля северных алтайцев пассивно владеет родным языком: понимают, о чем говорят, но отвечают по-русски, объясняя тем, что «так удобно» и «понятным является русский язык». Немногие используют родной язык в повседневной жизни – лишь лица старше 50 лет. В основном это те, кто в послевоенные годы учился в г. Горно-Алтайске: тогда было тесное общение с южными алтайцами и в ходу были книги с произведениями алтайских писателей. Это поколение трилингвов предлагает свое решение «языковой» проблемы путем издания журналов, книг со сказками, песнями на родном диалекте, создания радио- и телепередач, что поднимет престиж и расширит сферу употребления языка. Однако эти пожелания не отвечают реальной жизненной действительности, в которой книга вытеснена виртуальным миром (электронными текстами, мультфильмами, компьютерными играми, Интернетом), где популярность приобретает английский язык.
В начале 1990-х годов кумандинский, чел-канский и тубаларский языки были занесены в Красную книгу языков России. Среди главных назревших проблем северные алтайцы называют языковую, решение которой позволит им стать равными с южными алтайцами. Предполагается, что «оживление» их диалектов позволит сохранить многое – терминологию и фольклорные тексты, промыслы и ремесла. Решение проблемы многие видят в преподавании алтайского языка в школе по опыту южных алтайцев. В их моноэтничных селах в начальной школе преподают на родном языке, а затем на русском, при этом алтайский язык и алтайская литература остаются. Северные алтайцы, живущие в смешанных селах, учатся в школах с русским языком обучения. По результатам социолингвистического опроса, проведенного среди тубаларов местными языковедами, примерно треть анкетируемых считают целесообразным использовать во всех классах средней школы родной язык [7]. Столько же информантов высказываются за русский язык, треть опрошенных указывают на необходимость вести обучение на двух языках. В школах преподается русский язык и иностранный, в основном английский, а алтайский язык введен факультативно. Фактически его преподавание происходит эпизодически, но для освоения языка необходимо общение. В семейной и родственной среде родной язык не звучит, и поэтому дети его не знают. Такая ситуация приводит к отказу учить алтайский язык, что родители объясняют большой загруженностью детей в школе. На самом деле они не видят необходимости в изучении родного языка и исходят из соображений престижа русского языка для упрощения адаптации в русскоязычном коллективе, получения качественного образования и возможности благополучной карьеры.
В результате интенсивной ассимиляции утрачивается этническое «я». Происходит депопули-зация северных алтайцев: по данным переписей 2002 и 2010 годов, прироста их численности не произошло. В Республике Алтай челканцев насчитывается 0,9 тыс. чел., тубаларов – 1,6 тыс. чел., а кумандинцев – около 1 тыс. чел. (в Алтайском крае – 1,7 тыс. чел., Кемеровской области – 0,3 тыс. чел.) [3]. В это число вошли дети от смешанных браков и члены их семей, относящиеся к русским, но пожелавшие стать представителями коренных малых народов Севера (КМНС). Об этом можно судить, побывав на Съезде КМНС республики, где кроме северных алтайцев присутствуют метисы и родственники из русских. Свою этническую принадлежность они объясняют так: «я по матери русский, а по отцу тубалар», «у меня бабушка была куман-динкой», «мой муж челканец, значит, наши дети челканцы, ну и я записалась челканкой». С целью установления национальности обращаются в суд, даже в обыденной речи появилось выражение «сделать КМНС».
За двойной идентичностью стоит трансформация понимания этничности. Один из «новых» тубаларов, родом из местных русских, объяснил так: «Теперь быть тубаларом означает не только “антропология” (в смысле внешность), как было раньше, а условия совместного проживания с тубаларами и та же среда обитания, в которой ощущаешь себя таким же тубаларом». «Новые» северные алтайцы не стремятся знать один из диалектов, а желают получать льготы, полагающиеся КМНС России: квота при зачислении в вуз и другие учебные заведения, получение стипендии и общежития, освобождение от налогов на землю, бесплатная заготовка дров и строительного леса, получение охотничьего билета, выход на пенсию раньше на 5 лет (мужчины в 55 лет, женщины в 50 лет).
Перечисленные меры направлены на улучшение низкого уровня жизни северных алтайцев, когда семья безработных вынуждена жить на детское пособие или пенсию инвалидов и престарелых. Получив право на бесплатную вырезку леса и 30 тыс. руб. на его вывоз, немалая доля северных алтайцев продают лес и пускают выручку на спиртное. Другая проблема заключается в том, что вследствие уничтожения кедра оказалась подорвана традиционная система природопользования, испокон веков связанная с кедровой тайгой. В получении права на охоту для удовлетворения нужд многие видят возможность браконьерства и нарушают неписаные правила промысла. Наконец, создание «новой» Ассоциации КМНС республики и борьба за должность председателя, отсутствие школьных учебников и словарей по родному алтайскому языку подводят к мысли о том, что языковая проблема становится предметом политических спекуляций [13].
Коренные малочисленные народы Алтая остаются создателями и хранителями уникальной культуры. Актуальными остаются проблемы укрепления самосознания на основе «финского типа» северных алтайцев и сохранения их родного языка. Невысокая численность народа, утрата основных черт традиционной культуры, рост числа смешанных браков способствуют этническому размыванию. Сложности внутриэтниче-ских отношений групп алтайцев указывают на необходимость выработки общей стратегии возрождения на фоне этнокультурного дискурса.
* Статья подготовлена при финансовой поддержке проекта РГНФ «Символы и атрибуты родовой потестарности алтайцев в этнополитическом дискурсе Республики Алтай» № 13-11-04005а(р), рук. Н. А. Тадина.
“ TURK IN LANGUAGE, FINNO-UGRIC PEOPLE IN APPEARANCE ” : ON ETHNO-CULTURAL DISCOURSE OF NORTHERN ALTAIANS IN ALTAI REPUBLIC
Список литературы «Тюрки по языку, финно-угры по облику»: об этнокультурном дискурсе северных алтайцев в Республике Алтай
- Гельмерсен Г. П. Телецкое озеро и телеуты Восточного Алтая/Пер. с нем. Д. Планера//Горный журнал. 1840. Т. II. Кн. 4. С. 17-57.
- Культура и традиции коренных народов Северного Алтая/Отв. ред. А. В. Малинов. СПб.: Изд. Дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2008. 400 с.
- Кумандинцы на Алтае [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/altay/viewpage.php
- О национальном составе населения России по переписи 2010 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zemfort1983.livejournal.com
- Потапов Л. П. Из этнической истории кумандинцев//История, археология и этнография Средней Азии. М.: Наука, 1968. С. 316-323.
- Потапов Л. П. Тубалары Горного Алтая//Этническая история народов Азии. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1972. С. 52-66.
- Потапов Л. П. Заметка о происхождении челканцев-лебединцев//Бронзовый и железный век Сибири. Новосибирск: Наука, 1974. С. 304-313.
- Радлов В. В. Из Сибири: Страницы дневника/Пер. с нем. К. Д. Цивиной, Б. Е. Чистовой. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. 749 с.
- Сарбашева С. Б. Социолингвистическая ситуация у тубинцев//Алтайская филология. Горно-Алтайск: ГАГУ РИО «Универ-Принт», 2001. С. 157-166.
- Тадина Н. А. Алтайцы: между «севером» и «югом» (к проблеме внутриэтнического общения)//Известия АГУ Сер. «История». 2008 № 4/2 (60). С. 178-184.
- Тубалары (туба, черневые татары): Сборник науч. статей (очерков) и мат-лов, извлечений из трудов исследователей территории и населения Алтая XIX-XX вв./Сост. С. Н. Тарбанакова. Горно-Алтайск; Барнаул: ООО «ИПП “Алтай”», 2009. 328 с.
- Челканцы в исследованиях и материалах XX века/Отв. ред. Д. А. Функ. М.: Издание ИЭА РАН, 2000. 155 с.
- Ябыштаев Т. С. О кризисе общественных отношений в Республике Алтай//Вестник ТГУ 2012. № 4 (20). С. 161-164 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/his
- Ядринцев Н. М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение. Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2000. Т. 2. 336 с.
- Ярхо А. И. Алтае-саянские тюрки. Антропологический очерк. Абакан: Хакоблиздат, 1947. 9 с.