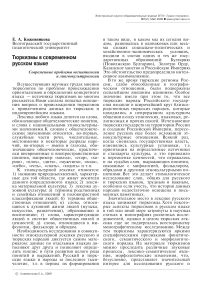Тюркизмы в современном русском языке
Автор: Кожевникова Евгения Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Современные проблемы когнитологии и лингвокультурологии
Статья в выпуске: 1 (2), 2009 года.
Бесплатный доступ
Сделана попытка освещения вопроса о происхождении тюркизмов с привлечением данных по тюркским и индоевропейским языкам. На основе материала можно проследить судьбы тюркизмов в русском языке: они не просто влились как безучастные свидетели процесса заимствования, а вступили во взаимодействие с исконными словами, сами подвергаясь перестройке и вызывая обратную перестройку в семном соотношении лексем.
Сравнительное языкознание, современный русский язык, тюркизмы
Короткий адрес: https://sciup.org/14821418
IDR: 14821418
Текст научной статьи Тюркизмы в современном русском языке
В существующих научных трудах мнения тюркологов по проблеме происхождения ориентализмов и определения конкретного языка — источника тюркизмов во многом расходятся.Нами сделана попытка освещения вопроса о происхождении тюркизмов с привлечением данных по тюркским и индоевропейским языкам.
Лексика любого языка делится на слова, обозначающие общечеловеческие понятия, и слова с национальными этнокультурными значениями. К словам с общечеловеческими значениями относятся, во-первых, служебные части речи, числительные, местоимения и некоторые разряды наречий, во-вторых — имена и глаголы, обозначающие общечеловеческие, практически вневременные и внепространственные понятия, например: «молод», «стар», «хорош», «плох», «дитя», «мужчина», «вода», «небо», «есть», «спать», «ходить» и т.п.
К этнокультурной лексике относятся: 1) названия природных явлений, характерные для той области, где живут носители данного (определенного) языка; 2) лексика материальной культуры; 3) лексика духовной культуры: а) термины родственных и семейных отношений и половозрастной классификации людей; б) термины общественных отношений; в) слова, относящиеся к духовной жизни людей (музыка, искусство, развлечения), образованию и воспитанию; г) слова, характеризующие людей в системе общественных связей и ценностей; д) слова, относящиеся к мифологии, фольклору и обрядам.
Необходимость исследования в совокупности этнокультурной лексики русского и тюркских народов диктуется самим материалом: данные по отдельным языкам дополняют друг друга и позволяют определить генезис и пути развития целого ряда понятий и выражений. Русский и тюркские языки и народы за последнее тысячелетие, т.е. в период их формирования в таком виде, в каком мы их сегодня видим, развивались в одинаковых или весьма схожих социально-политических и хозяйственно-экономических условиях, входили в состав одних и тех же государственных образований: Булгарию (Поволжскую Булгарию), Золотую Орду, Казанское ханство и Российскую Империю. Это обстоятельство предопределило интенсивное взаимовлияние.
В то же время тюркские регионы России, слабо обособленные в географическом отношении, были подвержены сильнейшим внешним влияниям. Особое значение имело при этом то, что все тюркские народы Российского государства входили в широчайший круг близкородственных тюркских народов, которые находились в непрерывном культурном общении в силу этнических, языковых, религиозных и прочих связей. Исчезновение тюркских государств на территории России и создание Российской Империи, переселение русских еще более осложнили этнокультурные отношения. Всякий раз, когда сменялась государственная власть, изменялись культурные установки, т.е. ориентации на определенные источники и стандарты культуры, а это приводило к переоценке ценностей, что отражалось и на судьбах слов, выражающих понятия, связанные с мифологией, фольклором, обрядами и другими этнокультурными понятиями. Все это делает этимологическое исследование слов, общих для русского и тюркских языков, трудным и важным, особенно если учесть, что история данных народов недостаточно освещена в письменных памятниках.
Значительное место в лексике русского языка занимают тюркизмы. Хотя некоторые аспекты тюркизмов в русском языке в той или иной мере затронуты в научных статьях и монографиях различных исследователей, однако в целом тюркская лексика еще не подвергалась всестороннему монографическому исследованию. Между тем тюркизмы характеризуются яркими специфическими признаками фонетического, семантического и морфологического порядка. На материале тюркизмов можно проследить различные звуковые процессы, лексико-семантические явления, морфологические изменения, что, безусловно, представляет значительный интерес для исследования русского и других славянских языков. Для русского языка результаты комплексного изучения тюркизмов, в особенности этнокультурной лексики, могут послужить неоценимым источником восстановления отдельных фрагментов его истории.
К проблеме русских фамилий булгароказанского и татарского происхождения обращались многие исследователи, среди которых наиболее подробно и детально рассматривали антропонимы историк С.Б. Веселовский в своей книге «Онома-стикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии» (М., 1974) и Н.А. Баскаков в книге «Русские фамилии тюркского происхождения» (М.: Наука, 1979). Но они подходили к проблеме с позиций разных наук: первый как историк, а второй как филолог. К тому же они не знали работ друг друга, не использовали и работ ряда других авторов, а также материалы Писцовых книг, особенно по Казани и Казанскому уезду ХVI — ХVII вв.
В данной работе предлагается часть списка русских фамилий тюркского происхождения, при этом уделено больше внимания фамилиям, имеющим булгарское, казанское и татарско-мишарское происхождение.
АКЧУРИНЫ . Мишарско-мордовский князь Адаш в XV веке, родоначальник мурз и дворян Акчуриных (РБС, I: 62). В XVII — XVIII веках — известные чиновники, дипломаты, военные (РБС, I: 108 — 109). Фамилия от тюрко-булгарского ак чура «белый богатырь».
КОЖЕВНИКОВЫ (КОЖАЕВЫ ). От Кожая Мурзы, вышедшего на службу к Ивану III в 1509 году и утвержденному в дворянах в 1544 году (ОГДР, VII: 20). Н.А. Баскаков (1979) предполагает происхождение фамилии от тюркского ходжа ~ коджа ~ козя «господин». Такая приставка была характерна и для казанцев, например, посол казанский Козя-Охмет (ПСРЛ, 29: 128).От этого прозвища произошла, вероятно, фамилия Хужиахметовы.
ТУРГЕНЕВЫ. От мурзы Тургеня Льва (Арслана), вышедшего около 1440 году из Орды к Вел. кн. Василию Ивановичу. В российских дворянах определены в середине XVI века (ОГДР, IV: 53; БК, II: 389). В середине и второй половине XVI века известен служилый П¸тр Тургенев — посол в Ногаи, Астрахань (ПСРЛ, 29: 39, 230, 231], а в 1566 — 1568 гг.
записанный сыном боярским в Казанском городе (Кремле) (ПКК: 10). Фамилия от тюркского турген «быстрый, отважный» (Баскаков 1979).Великий русский писатель И.С.Тургенев относится к этому роду.
УШАКОВЫ . Основа рода выводится к тюркоязычному князю Касуйской Орды Редега, два сына которого, в крещении принявшие имена Юрий и Роман, перешли на киевско-славянскую службу. Пра-пра-внук Романа Редегича Григорий Слепой имел сына Ушака, от которого пошли Ушаковы (ОГДР, VIII: 9). Фамилия Ушаков имеет в своей основе тюркское слово ушак «малый, невысокий человек» (Баскаков 1979).
Изучение различных тематических пластов лексики, в том числе и названий млекопитающих, является одной из важнейших задач современной лингвистики.
Зоологическая лексика, являющаяся одним из наиболее интересных пластов словарного состава языка, включает в себя такие лексико-семантические группы, как «млекопитающие», «птицы», «насекомые», «рыбы», «пресмыкающиеся», «земноводные» и т.д., которые отличаются древностью и богатством, многообразием и самобытностью входящих в их состав лексических единиц.
Например, в разделе «Животноводство» книги «Общая лексика материальной культуры народов Среднего Поволжья» подвергаются этимологическому анализу следующие наименования домашних животных: башмак ‘телка, годовалый теленок, теленок двухлетний’; дуңгыз ‘свинья’; сарык, сау-лык ‘овца’; тана ‘телка, еще не отелившаяся молодая корова’; чучка ‘свинья’; алаша, лаша ‘мерин’ и т.д.(Ахметьянов 1989).
В словаре И. Гиганова «Словарь российско-татарский» (1804) зафиксировано 60 наиболее употребительных в то время названий млекопитающих: гюзь ‘быкъ’,ябанъ д ннңзы ‘вепрь/кабань’,атъ ‘лошадь’, сыиръ /сыгыръ ‘корова’, чичканъ ‘мышь’, симялякъ ‘собачка’, катыръ/кацыръ ‘лошакъ’, лакъ ‘козленок’, анъ ‘зверь’, анцакъ ‘зверок’, кадырга ‘кит’, акъ кiикъ ‘дикая коза’, яргакът нъ ‘кожанъ’, мишякъ ‘кошка’ (Гиганов 1804).
Некоторые общеалтайские и общетюркские зоонимы встречаются в славянских и финно-угорских языках. Семантическое развитие этих наименований исследователи объясняют по-разному, но часто связывают с тюркскими наименованиями. Также высказывается мысль о том, что для определенных названий животных, таких, например, как борындык ‘бурундук’, алаша ‘мерин’, барс ‘барс’, кәже ‘коза’, тюркские языки, вероятно, не являются источником.
К ә же ‘коза’ (Capra). Наименование к әж е в татарском языке употребляется для обозначения домашней козы. Наряду с литературным названием в диалектах татарского языка отмечены такие слова, как кз~кg~г ә ~ичке (Садыкова 1994). Наименование к ә , сочетаясь с другими словами, в татарском языке образует устойчивые словосочетания: к т ә к ә се ‘козел’, к б ә тие (б ә р не) ‘козленок’, к ә сакалы бот.‘козлобородник’, к ә гңле (ч ә ч ге) бот.‘икотник’, к ә г ә мб се бот.’смолевка белая’, к ә билеты ‘волчий билет’, к әже калдыру ‘оставить козлом’ (при игре в домино, карты).
Слово дун гыз в татарском языке употребляется в значении ‘домашняя свинья’, а слово кабан ~ кабан ~ дунгызы — в значении ‘дикая свинья’. Эти названия широко распространены и в современных тюркских языках, почти во всех из которых кабан означает ‘дикую свинью’: тат., башк., ног., каз., як., чув. кабан , кирг. каман , узб. кобон , кум. къабан , уйг. каван , аз. габан. В значении ‘домашняя свинья’ слово хаван известно только в тувинском языке. Судя по свидетельству письменных памятников и по показаниям живых языков и диалектов, древнейшим является значение ‘дикая свинья’ (Сетаров 1992).
В значении ‘дикая свинья’ слово кабан употребляется в русском языке, а также в украинском, белорусском и польском. Языковые факты указывают на то, что слово кабан из тюркских языков заимствовано русским языком, в котором оно постепенно вытеснило старославянское слово вепрь . Словари русского языка объясняют значение слова вепрь , обращаясь к заимствованию из тюркских языков кабан : «вепрь — то же, что кабан ». Широкое распространение переносного значения у слова кабан в русском языке позволило Д.С. Сетарову высказать мысль, что «слово кабан прочно вошло в лексическую систему русского языка» (Там же).
Тюркизм, как любое исконное или заимствованное слово, — понятие историческое, а потому все его лексико-семантические связи (в том числе и синонимические) определяются функционально-стилистическим статусом, характерным для хронологически определенного периода бытования в языке-рецепторе.
При заимствовании лексемы обычно имели одно значение, причем, как правило, связанное с основным значением этимона ( халат, штаны, шаровары и т.д.). Оторванные от типологически привычной языковой среды, естественного окружения слов-сородичей, заимствования попадали в чуждое словесное окружение. По внутренним законам языка тюркизмы включались на разных правах в синонимические ряды, которые по мере приближения к современности все более расширяются за счет заимствований из разных языков. Внутри синонимических рядов идет невидимая, но постоянная борьба конкурирующих лексем за право утверждения. По справедливому замечанию В. Л. Виноградовой, «конкуренция слов и значений служит одной из основных причин (поводов) их изменений, утрат, одним из основных проявлений развития языка» (Виноградова 1977).
Но поскольку слово как акт речи является элементом избирательным, диктуемым назначением, задачей общения, то выбор того или иного члена синонимического ряда определяется экстралингви-стическими факторами, в конечном итоге степенью соответствия самой реалии высказываемой мысли, взаимной мотивированностью слова и обозначаемого им понятия, предмета. Вот почему устаревание реалии или утрата ее целесообразности в материально-бытовой жизни как эхо отзывается в лексико-семантической жизни слова и, напротив, активность ее в быту, расширение сферы использования ведет к утверждению как средства номинации. В качестве примеров первого типа могут быть названы: бугай, казакин, чикчиры, епанча, терлик, тегиляй, чуга, яга и т.д.; второго типа: сарафан, халат, тулуп и др. Первые из них, не выдержав конкуренции, вышли из употребления, их использование возможно лишь при воспроизведении событий, исторически связанных с их бытованием. Слова второго типа ни до, ни после их появления не имели серьезного конкурента, который мог бы сместить их. Потребность в применении обозначаемых ими предметов и отсутствие каких-либо дублетов превратили сарафан, халат, тулуп в единственные номинации соответствующих реалий.
Прослеживание судьбы тюркизмов в русском языке позволяет говорить о том, что они не просто влились как безучастные свидетели процесса заимствования, а вступили во взаимодействие с исконными словами, сами подвергаясь перестройке и вызывая обратную перестройку в семном соотношении лексем.
Например, слово лошадь , судя по первым фиксациям, датируемым началом XII в. (СлРЯ, 8: 288), появилось в русском языке позже, чем конь (XI — XVII вв. — СлРЯ, 7: 287) и первоначально вошло как наименование по половому различию. Слово лошадь вскоре, однако, приобретает функции общеродового понятия, и в лексикографических источниках оба слова толкуются одно через другое. В синонимическом ряду, куда входят, кроме слов лошадь и конь , книжное, ироническое буцефал , народно-поэтическое сивка , крестьянское разговорное савраска, кляча (плохая), скакун (резвая), разговорное одер , книжное ироническое росинант (Александрова), тюркизм лошадь является доминантой. В современном русском языке слово конь чаще выступает в значениях «самец лошади», «верховой, воинский конь». Слово лошадь употребляется для обозначения общеродового названия животного, самки и тяглового животного; реже — для обозначения воинского, верхового коня.
Выступая в своих основных значениях в качестве нейтрально-стилевого обозначения, в переносном значении тюркизм приобретает сниженно-негативный характер.Через восприятие «плохой конь», «рабочий скот» словом лошадь в речевой ситуации называют неповоротливого, неуклюжего человека. В итоге стало стираться изначальное противопоставление слов лошадь и конь по половому различию и укрепляться различие функциональное и стилевое.
Список литературы Тюркизмы в современном русском языке
- Александрова З. Е. Словарь сино-нимов русского языка: практ. справочник: ок. 11000 синоним. рядов/З. Е. Александрова. 8-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1995.
- Ахметьянов Р. Г. [Рецензия]/Р. Г. Ахметьянов//СТ. 1984. № 2. Рец. на кн.: Опыт исследования заимствований (тюркизмы в русском языке сравнительно с другими славянскими языками)/Р. А. Юналеева. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982.
- Баскаков Н. А. Русские фамилии тюрк-ского происхождения/Н. А. Баскаков. М.: Наука, 1979.
- Виноградова В. Л. Исследование в области исторической лексикологии русского языка: автореф. дис....… д-ра филол.наук/В. Л. Виноградова. М., 1977.
- Гафуров А. Имя и история/А. Гафу-ров. М.: Наука, 1987.
- Гиганов И. Словарь российско-татарский, собранный в Тобольском главном народном училище/И. Гиганов. Спб., 1804.
- Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV -первой трети XVI века/А. А. Зимин. М.: Наука, 1988.
- Савва В. И. Дьяки и подьячий Посольского приказа в XVI веке/В. И. Савва. М., 1983.
- Садыкова З. Р. Зоонимическая лексика татарского языка: монография/З. Р. Садыкова. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1994.
- Сетаров Д. С. Зооморфная метафора, характеризующая человека, в русском и турецком языках: автореф. дис....… канд. филол. наук/Д. С. Сетаров. М., 1994.