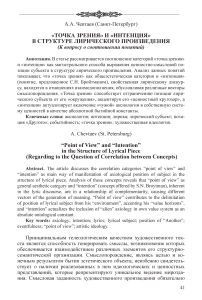«Точка зрения» и «интенция» в структуре лирического произведения (к вопросу о соотношении понятий)
Автор: Чевтаев Аркадий Александрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы. Текстология
Статья в выпуске: 1 (36), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается соотношение категорий «точка зрения» и «интенция» как магистрального способа выражения ценностно-смысловой позиции субъекта в структуре лирического произведения. Анализ данных понятий показывает, что «точка зрения» как общеэстетическая категория и «интенция» (понятие, предложенное С.Н. Бройтманом), свойственная лирическому дискурсу, находятся в отношениях взаимодополнения, обусловливая различные векторы смыслопорождения. «Точка зрения» способствует отграничению позиции лирического субъекта от его «окружения», акцентируя его «ценностный кругозор», а «интенция» актуализирует включение «чужой» аксиологии в собственную систему ценностей в качестве абсолютной бытийной константы.
Аксиология, интенция, лирика, лирический субъект, позиция "другого", событийность, "точка зрения", художественная идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/14914535
IDR: 14914535
Текст научной статьи «Точка зрения» и «интенция» в структуре лирического произведения (к вопросу о соотношении понятий)
Принципиальным телеологическим качеством художественного текста является способность генерировать смыслы, возникновение которых обеспечивается взаимодействием различных элементов его структурносемантической организации. Смыслопорождение, являясь целью и конечным результатом бытия эстетического объекта, неизбежно свидетельствует о наличии реализованных в нем идеологических и ценностных представлений, которые репрезентируют уникальное видение мироздания. Смысловая заданность художественного произведения обязательно
предполагает субъектную позицию, в соответствии с которой происходит развертывание изображаемого мира и посредством которой транслируется определенная система ценностного отношения к миру. Таким образом, взаимодействие субъекта с окружающей художественной реальностью ставит вопрос о принципах его самополагания в структуре текста, посредством чего формируется идеология (и шире – аксиология) моделируемого универсума.
Одной из ключевых категорий, определяющих специфику позиций субъекта и персонажей, а также способы их поведения в художественном тексте, является категория «точки зрения». Согласно Ю.М. Лотману, данное понятие предполагает направленность некоторого сознания («субъекта системы») на конструируемый в тексте универсум, и «так как художественная модель в самом общем виде воспроизводит образ мира для данного сознания, то есть моделирует отношение личности и мира <…> эта направленность будет иметь субъектно-объектный характер»1. На сегодняшний день в рамках структурно-семиотического и нарратологиче-ского подходов к изучению эстетических систем модель «точки зрения» и принципы ее функционирования разработаны достаточно подробно. Так, в работах Б.О. Кормана, Б.А. Успенского, В. Шмида предложено детальное описание данной категории как центрального элемента текстовой организации, определяющего восприятие, отбор и передачу информации об изображаемом мире2. Наличие «точки зрения», посредством которой утверждается некоторая структурно-семантическая позиция явленного в тексте «я» и, соответственно, раскрываются аксиологические характеристики моделируемой реальности, является неотъемлемым элементом любого художественного текста, в том числе и лирического.
Осмысление специфики «точки зрения» в структуре лирического текста в отечественном литературоведении носит неоднозначный характер. Так, по мысли Т.И. Сильман, лирический субъект «с точки зрения перспективы изображения, находится в некоей фиксированной пространственновременной точке, соответствующей в психологическом плане состоянию лирической концентрации». Эту точку в развитии сюжета исследователь определяет как «основную точку отсчета» и указывает, что «поэт, рассылая свои проекции-излучения во времени и в пространстве в самых различных направлениях <…> проявляет постоянное стремление каждый раз после изображения тех или иных фактов... возвращаться... к своему собственному “я”, к однажды намеченной им для данного стихотворения точке отсчета»3. Представляется, что такой подход упрощает понимание внутренней динамики лирического субъекта в изображаемом универсуме. Естественно, концентрация субъекта на собственных переживаниях присуща лирике и является одним ведущим механизмом смыслообразования. Но говорить о фиксации эмоционально-психологического состояния вряд ли правомерно. Развитие лирического сюжета порождает новые значения, свидетельствующие о том, что в состоянии субъекта стихотворения от начала к концу текста произошли необратимые изменения.

Применение категории «точки зрения» по отношению к лирическому высказыванию наиболее подробно обосновано в «системно-субъектном методе», разработанном Б.О. Корманом. Рассматривая автора как явление внутритекстовой реальности, которое обнаруживается при помощи соотношения всех фрагментов текста, образующего то или иное произведение, с субъектами речи и субъектами сознания, и четко разграничивая первых и вторых, Б.О. Корман указывает, что «точка зрения» является основополагающим понятием, фиксирующим «отношение между субъектом сознания и объектом сознания»4. Как видно, здесь также акцентирован момент фиксации, однако он получает противоположную, нежели в трактовке Т.И. Сильман, функцию: «точка зрения» фиксирует не позицию субъекта, а его отношение к изображаемому миру, которое по мере развертывания лирической рефлексии трансформируется и обусловливает динамическое развитие сюжета.
Описывая специфические признаки «точки зрения», ученый выделяет несколько планов ее выражения в тексте: прямо-оценочный, временной, пространственный и фразеологический. Отношение субъекта к объекту изображения, реализуемое в различных планах, становится источником формирования параметров художественной реальности. Б.О. Корман отмечает, что прямо-оценочный план (в моделях «точки зрения», предложенных Б.А. Успенским и В. Шмидом, он обозначен как идеологический, что, на наш взгляд, более адекватно природе художественного текста) является обязательным признаком «точки зрения» в лирике, т.к. через него выражается система ценностно-смысловых установок субъекта: «в одном случае <…> передаются представления о добре, норме; в другом – зле, антинор-ме»5. Соглашаясь с этим, укажем, что план идеологии, по сути, подчиняет себе и остальные формы воплощения «точки зрения»: временная перспектива, пространственное оформление позиции субъекта или персонажа, психологическое состояние и языковые характеристики говорящего в результате формируют определенное идеологическое поле лирического высказывания. Соотношение и изменение этих параметров в конечном итоге обеспечивает смысловую заданность поэтического текста.
Несмотря на очевидную продуктивность данной категории для выявления принципов взаимодействия субъекта с внеположной ему реальностью, в современной теории лирики существует концепция, ставящая под сомнение адекватность применения «точки зрения» в качестве основного инструментария по отношению к лирическому тексту. Концептуальные возражения на этот счет сформулированы в работах С.Н. Бройтмана. Прежде всего, исследователь отмечает, что принципиальным недостатком структуралистского понимания природы лирического текста является прямолинейность описания субъектной системы лирики, реализуемая в акцентировании объектной направленности отношений между «я» и «другим». Обращаясь к категориальному аппарату кормановской «теории автора», С.Н. Бройтман констатирует, что ее безусловное достижение – открытие «многомерности и многосубъектности авторского плана в лирике» – переплетается с «недооценкой субъектной природы “другого” (ге-

роя) и стремлением излишне жестко объективировать в качестве “героя” авторские интенции»6. Ученый исходит из представлений о невозможности однозначного выделения дистанции между субъектом и лирическим персонажем, предполагающей смысловую объективацию, а соответственно, и невозможности верифицировать посредством «точки зрения» ценностную позицию лирического субъекта.
Отрицая методологический потенциал «точки зрения» как категории, предполагающей «наличие дистанцированности» и «неслиянности», которой «лирика (особенно “чистая”) часто не знает»7, С.Н. Бройтман вместо нее вводит понятие «интенции» как «ценностной экспрессии субъекта, направленной не на объект, а на другого субъекта», что, по мнению ученого, наиболее адекватно природе межсубъектных отношений в лирике. «Интенция» лирического сознания здесь соотносится с понятием «дхва-ни», обозначающим высший уровень индийской семантики. «Дхвани» представляет собой поэтическое высказывание, в котором содержание или выражение, проявляющие значение, отступают на второй план. По мысли ученого, в лирике это связано с «наличием в ней выраженного и проявляемого субъектов – “человека в человеке”»8. Поэтому при рассмотрении специфики лирического дискурса необходимо выявлять внутреннюю форму высказывания, что позволит увидеть соотношение «другого» в «я» и «я» в «другом».
В основе предлагаемого подхода, очевидно, находятся идеи М.М. Бахтина, указывающего на принципиальную важность «другого» для лирического сознания: «Лирическая форма привносится извне и выражает не отношение переживающей души к себе самой, но ценностное отношение к ней другого как такого»9. Безусловно, бахтинский взгляд на межсубъектные отношения в лирике, и шире – в художественном высказывании в целом, точно характеризует природу эстетического объекта. Хотя, согласно М.М. Бахтину, в лирике межсубъeктные отношения носят ограниченный характер и далеко не всегда способны воплотиться в наивысшую форму диалогизма, но и здесь вне диалога не может произойти смыслопо-рождение, и ценностные ориентиры текста останутся нереализованными. Указывая на постулируемую в концепции М.М. Бахтина «неслияннность и нераздельность» разнородных сознаний, С.Н. Бройтман делает акцент на втором параметре как сущностно определяющем специфику межсубъектных отношений в лирике.
Однако диалогизм как раз предполагает наличие различных «точек зрения», репрезентирующих событие бытия и определяющих «кругозор» и «окружение» субъекта. Согласно М.М. Бахтину, «возможно двоякое сочетание мира с человеком: изнутри его – как его кругозор, и извне, как его окружение. Изнутри меня самого, в ценностно-смысловом контексте моей жизни предмет противостоит мне, как предмет моей жизненной направленности, <…> здесь он – момент единого и единственного открытого события бытия, которому я, нудительно заинтересованный в его исходе, причастен»10. Таким образом, переход с одной позиции видения на другую
способствует утверждению смысловой значимости «чужого» «я».
Очевидно, что перенос акцента с непосредственной субъектной позиции видения моделируемого мира, определяемой «точкой зрения» как текстуальной категорией, на интенциональную природу самополагания «я» в поэтическом универсуме, предлагаемый С.Н. Бройтманом, продуцирует переход от понимания специфики лирического текста как знаковой фиксации механизмов смыслообразования к осмыслению завершенности художественного высказывания как лирического произведения. Именно завершенная целостность продуцируемых смыслов, явленных как релевантная авторскому сознанию система ценностей, позволяет вскрыть интенциональную «заинтересованность» субъекта в «другом «я». Поэтому понятийное соотношение «точки зрения» и «интенции» необходимо рассматривать в аспекте лирического произведения, а не только текстовой организации высказывания.
Итак, в основе и «интенции», и «точки зрения» как смыслопорождающих категорий оказывается манифестация диалогических отношений. Это продуцирует вопрос о сущности их взаимодействия и границах применения по отношению к лирическому произведению, особенно в тех случаях, когда в структуре лирического дискурса обнаруживается более или менее явное тяготение к нарративному полюсу текстовой организации, т.е. акцентируется наличие фабульных элементов сюжетостроения.
Определенные функциональные различия данных категорий можно обнаружить, обратившись к нарративной структуре стихотворения Н.А. Некрасова «Тройка» (1846), на примере которого С.Н. Бройтман обосновывает принципиальное значение «интенций», а не «точки зрения» для динамики ценностного признания «другого». Так, по мысли исследователя, первые шесть строф здесь строятся «на условно-поэтической образности и романсовой интонации»11, тогда как с 7-й по 12-ю строфу высказывание организовано нарочито прозаической речью. Каждая часть стихотворения определяется собственной «интенцией», смена которых маркирована их контрастным столкновением в 6-й строфе: «Поживешь и попразднуешь вволю, / Будет жизнь и полна и легка… / Да не то тебе пало на долю: / За неряху пойдешь мужика»12. (Далее текст стихотворения Н.А. Некрасова цитируется по данному изданию с указанием номера страницы в квадратных скобках.) Действительно, нарастающая возвышенность экспрессии в первой части стихотворения резко сменяется народно-поэтической образностью, что изменяет ценностное направление рефлексии лирического субъекта. Однако сигнал такой трансформации присутствует уже в 1-й строфе: «Что ты жадно глядишь на дорогу / В стороне от веселых подруг? / Знать, забило сердечко тревогу – / Все лицо твое вспыхнуло вдруг» [43]. Лирический субъект занимает здесь внешнюю позицию по отношению к персонажу, формально не эксплицируя собственное «я» в диегеси-се, но его отсутствие в изображаемом мире редуцировано за счет снятия временной дистанции по отношению к изображаемому событию (настоящее время определяет и процесс высказывания, и развитие ситуации).
Темпоральное соединение «точек зрения» коррелирует с интроспекцией в сознание героини: в психологическом плане «точки зрения» повествователя присутствует и «неслиянность» с эмоциональным видением «другого» (вопросительная интонация, выражающая его «неведение»), и «нераздельность» их сознаний, данная как знание о внутреннем волнении героини («Знать, забило сердечко тревогу»). Как видно, «вживание» в мир персонажа проявляется в самом начале стихотворения, намечая ту «интенцию», которая в полной мере будет реализована во второй его части.
Далее, во 2-й строфе, взгляд субъекта фокусируется на эмоциональном порыве героини: «И зачем ты бежишь торопливо / За промчавшейся тройкой вослед?..» [43]. Это ее движение оказывается источником дальнейшей субъектной рефлексии: появление в сюжете третьего персонажа, нарушившее психологическое состояние героини («На тебя, подбоченясь красиво, / Загляделся проезжий корнет» [43]), инициирует размышление повествователя о ее дальнейшей судьбе. Ценностное постижение ее внутреннего мира, отмеченное оппозицией выделяемых С.Н. Бройтманом «интенций»: условно-поэтическим описанием облика героини в настоящем, очевидно представляющее «точку зрения» второстепенного персонажа (корнета) («На тебя заглядеться не диво, / Полюбить тебя всякий не прочь: / Вьется алая лента игриво / В волосах твоих, черных как ночь» [43]) и прозаизированным рассказом о ее предопределенном будущем («Завязавши под мышки передник, / Перетянешь уродливо грудь, / Будет бить тебя муж-привередник / И свекровь в три погибели гнуть» [43–44]), определяет различные идеологические ракурсы повествования.
По мысли С.Н. Бройтмана, вторая «интенция» моделирует взгляд субъекта на себя как на «другого», и это совершенно справедливо: восторг перед красотой героини пресекается знанием о ее истинной доле. Однако это знание обеспечено кругозором самого субъекта, реализуя его ценностный избыток видения, а не героини. Ее аксиология здесь проявляется прежде всего в эмоциональном порыве. Понимание несбыточности мечты характеризует идеологический план «точки зрения» повествователя, что акцентировано в двух финальных строфах стихотворения: «Не гляди же с тоской на дорогу / И за тройкой вослед не спеши, / И тоскливую в сердце тревогу / Поскорей навсегда заглуши! / Не нагнать тебе бешеной тройки: / Кони крепки, и сыты, и бойки, – / И ямщик под хмельком, и к другой / Мчится вихрем корнет молодой» [44]. Напутствие героине призвано открыть ей трагическую действительность человеческих отношений. Включение «точки зрения» персонажа, ставшего источником ее психологического надрыва («На тебя, подбоченясь красиво, / Загляделся проезжий корнет» – «…и к другой / Мчится вихрем корнет молодой»), оказывается ключевым параметром смыслопорождения: то, что для одного лишено ценности, для другого является источником тщетной надежды на счастье.
По сути, ценностный диалог в этом стихотворении реализуется в двух направлениях: с одной стороны, это соотношение воззрений лирического повествователя, идеологии героини, реализуемой посредством психологи-
ческого ее состояния, и идеологии второстепенного персонажа (корнета); с другой – столкновение аксиологических представлений внутри лирического субъекта, позволяющее в собственном «я» увидеть принципиального «другого». В первом случае он обеспечивается взаимодействием «точек зрения» (как внешних, так и внутренних), а во втором – интенциональным переключением, меняющим лирическую экспрессивность высказывания. Таким образом, и «интенция», и «точка зрения» здесь обеспечивают формирование художественной идеологии, оказываясь функционально различными, но взаимодополняющими параметрами ценностно-смысловой завершенности лирического произведения.
Представляется, что, разграничивая данные категории, следует учитывать обязательность четкого структурного представления «точки зрения» и несколько обобщенный, отмеченный стремлением к универсализации характер «интенции». Разумеется, что последняя также конструируется посредством формальных показателей, прежде всего – лексико-грамматических. С.Н. Бройтман отмечает, что для определения «интенции» необходимо выявление всех форм высказывания: прямых (от «я», от «мы», от «я» и «мы», без выраженного лица), косвенных (взгляд на себя со стороны, как на «ты», «он», обобщенно-неопределенного субъекта или как состояние, отделенное от его носителя) и синкретических, совмещающих различные варианты обозначения субъекта в тексте произведения13. Вместе с тем формализация субъектной структуры неизбежно приводит к обнаружению «неслиянности» сознаний, воплощаемой в системе «точек зрения».
В этом отношении особо показательно обращение к лирическом произведениям, в которых структурно-семантическая целостность обеспечивается принципиальными флуктуациями субъектной позиции. Как констатирует С.Н. Бройтман, неосинкретическая поэтика, основанная на неклассическом сознании и последовательно реализуемая в художественной практике символистов и постсимволистов, основывается на ощущении «непривилегированности “я” и представлении о себе как о некоем “дру-гом”»14. Подобный антропологический вектор приводит к тому, что интерсубъектность и разомкнутость «я» в «другого», а «другого» в «я» становится ведущим системным принципом организации субъектного мира в поэзии XX – начала XXI вв.
Наиболее значительным в этом плане оказывается поэтический опыт О.Э. Мандельштама. Рассмотрим принцип соотношения категорий «точка зрения» и «интенция» на материале заглавного стихотворения из сборника «Tristia» – «Я изучил науку расставанья…» (1918). Как неоднократно отмечалось в мандельштамоведении, это стихотворение оказывается точкой пересечения «Скорбных элегий» Овидия и элегии Тибулла в вольном переводе К.Н. Батюшкова15. Данное обстоятельство оказывается особенно важным в аспекте интенционального движения лирического субъекта, обусловленного двумя событийными центрами – прощанием (Овидий) и встречей (Тибулл).
В начале 1-й строфы лирический субъект эксплицирует собственное
«я» в изображаемом мире, сдвигая темпоральную перспективу в прошлое, маркируя дистанцию между своими повествующей и повествуемой ипостасями, что акцентирует их идеологическое несовпадение: «Я изучил науку расставанья / В простоволосых жалобах ночных»16. (Далее текст стихотворения О.Э. Мандельштама цитируется по данному изданию с указанием номера страницы в квадратных скобках.) «Я» в прошлом, погруженное в референтное событие, очевидно не равно «я» в настоящем, рефлексивно осмысляющему свершившееся. Однако далее временной план «точки зрения» резко изменяется, маркируя иллюзорность изначального несовпадения: «Жуют волы, и длится ожиданье – / Последний час вигилий городских» [138]. Лирический субъект обнаруживает себя в моменте события – в точке разлуки с любимой женщиной, с родным городом, с прежней жизнью. Точное указание темпоральной координаты – четыре часа утра («Последний час вигилий городских») – обеспечивает эмпирическую полноту проживаемой ситуации.
Далее, вновь в настоящем времени высказывания происходит удаление временной перспективы самого события: «И чту обряд той петушиной ночи, / Когда, подняв дорожной скорби груз, / Глядели вдаль заплаканные очи, / И женский плач мешался с пеньем муз» [138]. Эти колебания временного плана «точки зрения» лирического субъекта, где в настоящем просвечивает прошлое, а в прошлом настоящее, становятся сигналом внутреннего диалога. Ценностная экспрессия субъектного «я» здесь четко направлена на «другое» сознание, которое представлено пространственной и идеологической «точкой зрения» лирического персонажа, близкого субъекту аксиологически, но противоположного бытийно: знак «заплаканные очи» оказывается индексом присутствия в повествуемом мире любимой женщины, с которой расстается герой. В основе «интенции» оказывается постижение «другого» «я» в событии расставания.
Во 2-й строфе нарративный дискурс сменяется перформативным высказыванием, где эмпирическое «я» трансформируется в универсализированное «мы»: «Кто может знать при слове “расставанье”, / Какая нам разлука предстоит, / Что нам сулит петушье восклицанье, / Когда огонь в акрополе горит, / И на заре какой-то новой жизни, / Когда в сенях лениво вол жует, / Зачем петух, глашатай новой жизни, / На городской стене кры-лами бьет?» [138]. Лирический субъект здесь занимает позицию объединения с чужим сознанием, и такое совмещение «точек зрения» приобретает амбивалентную семантику: «я» и «она» (на уровне сюжетной организации текста) и «я» и «любой, кому приходится испытывать разлуку» (на уровне художественной рефлексии, инициированной событием расставания). Сознание героини стихотворения здесь мыслится нераздельным с сознанием лирического субъекта, что характеризуется сменой «интенции»: уже не разлука определяет устремленность «я» к «другому», а незнание грядущего и предощущение новой жизни (усиленная двойным повтором в сильной позиции конца строки отсылка к «Vita Nuova» Данте Алигьери). Образование этой идеологемы фактически становится следующим событием лири-
ческого повествования, меняющим аксиологию субъекта.
Это событие, сопряженное с «интенцией» ожидания, в 3-й строфе воплощается в проигрывание события неожиданного возвращения и встречи с любимой женщиной, Делией: «И я люблю обыкновенье пряжи: / Снует челнок, веретено жужжит, / Смотри, навстречу, словно пух лебяжий, / Уже босая Делия летит!» [138]. Художественные знаки «челнок», «веретено», порождающие семантику возвращения и соотнесенные с «пряжей» как символом ожидания (аллюзия на гомеровскую «Одиссею»), в идеологическом плане «точки зрения» лирического субъекта порождают мысль о возможности преодоления разлуки. Однако эфемерность и неопределенность этого события, протекающего всецело в ментальной сфере субъекта, формируют отстраненный взгляд на себя извне: эмпирическое «я» оказывается не равно самому себе, что выражается в грамматическом противопоставлении 1-го («я») и 2-го («смотри») лица, называющих одного субъекта. Происходит удваивание «точки зрения», причем сюда же включается и ценностная позиция персонажа (Делии) как внеположного герою сознания. Здесь, как и в 1-й строфе, вновь реализуются три «точки зрения»: две определяют самоопределение субъекта и одна представляет героиню. Интенциональная направленность героя на «другого» оказывается разомкнутой в двух направлениях: на себя представляемого и на персонажа. Такая смысловая экспрессия реализуется в утверждении онтологической повторяемости любого события: «О, нашей жизни скудная основа, / Куда как беден радости язык! / Все было встарь, все повторится снова, / И сладок нам лишь узнаванья миг» [138].
В 4-й, финальной, строфе эмпирическое «я» вновь сменяется «я» универсальным. «Точка зрения» лирического субъекта здесь характеризуется внешней перспективой, обращенной в вечность. Фокусируя взгляд на героине стихотворения, он придает ей обобщенные черты: «Да будет так: прозрачная фигурка / На чистом блюде глиняном лежит, / Как беличья распластанная шкурка, / Склонясь над воском, девушка глядит» [139]. Мотив гадания о новой встрече, который определяет семантику финальной строфы, корреспондирует здесь с «интенцией» ожидания, определяющей ценностную экспрессию во 2-й строфе. Лирический субъект сливается с «другим» сознанием, однако здесь совершенно четко определяется статус этого «мы»: «я» и «мужское» вообще как оппозиция «им» («она» и универсальное «женское»): «Не нам гадать о греческом Эребе, / Для женщин воск, что для мужчины медь. / Нам только в битвах выпадает жребий, / А им дано гадая умереть» [139]. Граница «нераздельности» и «неслиянности» смещается в сферу мужской и женской аксиологии, причем активность мужского начала ограничивается сферой земного мира («Нам только в битвах выпадает жребий»), тогда как женское оказывается способным проникнуть за пределы смерти и обрести истинное знание о грядущем («А им дано гадая умереть»).
Таким образом, соотношение «точек зрения» и «интенций» в стихотворении «Tristia» можно представить следующим образом:
|
Строфа |
Событие |
«Точка зрения» |
«Интенция» |
|
1-я |
Расставание |
«я» эмпирическое в прошлом «я» эмпирическое в настоящем «она» (Делия) в прошлом |
Постижение «другого» в момент разлуки |
|
2-я |
Предощущение |
«я» («мы») универсальное «она» («мы») универсальное |
Нераздельность с «другим» в момент ожидания новой жизни |
|
3-я |
Встреча |
«я» эмпирическое «я» как «ты» эмпирическое «она» в мыслимом будущем |
Единение с «другим» в повторяемости событий |
|
4-я |
Гадание Смерть Обретение вечности |
«я» как универсальное «мужское» «она» как универсальное «женское» |
«Нераздельность и неслиянность» с «другим» в вечности |
Отметим, что еще один вектор интенциональной направленности в этом стихотворении задается широким планом интертекстуальных связей. Ряд реминисценций, аллюзий и прямых цитат (Овидий, Тибулл, Данте Алигьери, Ф. Ницше, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, А.А. Ахматова), принципиально размыкающий лирическое высказывание в различные контексты мировой литературы, формирует «интенцию», в основе которой находится диалог с внетекстовым «другим» (мандельштамовское утверждение «тоски по мировой культуре»). Как отмечает Д.И. Черашняя, в творчестве О.Э. Мандельштама «Я-поэт САМ выбирает себе собеседников, вызывая их при необходимости из небытия, <…> переселяя их в свое реальное настоящее и – тем самым – оказываясь в их вечном настоящем»17. Естественно, в этом случае следует вести речь уже не о субъектной, а об авторской «интенции», определяющей художественную концепцию всего произведения в целом.
Соотношение «точки зрения» и «интенции» может характеризоваться некоторой взаимообратимостью в случае структурного совпадения, но идеологического разграничения инстанций лирического субъекта, персонажа и адресата. Подобный принцип внутренней диалогизации высказывания является одним из системообразующих в зрелом и позднем творчестве И.А. Бродского18. Так, интерсубъектность, актуализирующая позицию «инклюзивного» адресата, можно наблюдать в таких нарративи-зированных стихотворениях поэта, как «Декабрь во Флоренции» (1976), «Эклога 4-я (зимняя)» (1980), «Вид с холма» (1992), «В окрестностях Атлантиды» (1993).
Например, в стихотворении «В окрестностях Атлантиды» в первых четырех строфах лирический субъект эксплицирует собственную позицию в диегесисе, занимая «точку зрения» «всеведущего» повествователя, макси-
мально дистанцируясь от мира повествуемой истории во времени и пространстве: «Все эти годы мимо текла река, / как морщины в поисках старика. / Но народ, не умевший считать до ста, / от нее хоронился верстой мо-ста»19. Формально рефлексия лирического субъекта всецело направлена на принципиальных «других». Однако в изображении нарочито отдаленной картины жизни некоего города, означаемым которого является биографический топос (Петербург-Ленинград), появляются индексы причастности «я» повествователя репрезентируемой пространственно-аксиологической системе. Посредством объективированных и отчуждаемых вовне субститутов лирического субъекта («как морщины в поисках старика », «что-то, что трудно стереть со лба », «Но как ни гни / пальцы руки , проходили дни»; курсив наш – А.Ч. ) эксплицируется его присутствие в диегетическом плане текста.
В 5-й, финальной, строфе лирический субъект взгляд на себя как на «другого» переводит в адресатную плоскость: «…Теперь ослабь / цепочку – в комнату хлынет рябь, / поглотившая оптом жильцов, жилиц / Атлантиды, решившей начаться с лиц»20. Императивная форма обращения, с одной стороны, усиливает дистанцию между «я» и инклюзивным «ты», но – с другой, адресат оказывается идентичен лирическому субъекту, имплицитно присутствующему в изображаемом универсуме. «Точка зрения» здесь становится одновременно внешней и внутренней, принадлежащей субъекту и чуждой ему. Это совмещение противоположных перспектив акцентируется реорганизацией спациальных знаков. Как отмечает А.В. Кор-чинский, в поэтике И.А. Бродского «личное пространство вырастает до масштабов мирового, <…> в него вводятся границы, зонирование, тополо-гия»21. В данном случае происходит редукция интимизации пространства, присущей лирическому высказыванию: комната становится обозначением материка, поглощаемого водой. Идеологема абсолютного исчезновения, таким образом, порождается самим способом представления собственного «я» в структуре произведения. «Интенция» здесь предстает в качестве стремления лирического субъекта к самоустранению (структурно – из текста, идеологически – из универсума), что задано перспективой видения себя и окружающей действительности, уравниваемых в аспекте неизбежно наступающей энтропии времени, которая актуализирована в семантике знака «вода» («рябь, / поглотившая оптом жильцов, жилиц / Атлантиды»).
Итак, подведем некоторые итоги. Очевидно, что противопоставление категорий «точка зрения» и «интенция»» обусловлено реализуемыми в них различными направленностями самополагания «я» лирического субъекта в моделируемом мире. Художественная рефлексия, выражаемая в любом высказывании, предполагает обязательное отграничение субъектной позиции от ее окружения («неслиянность»). Событийный ряд в структуре лирического произведения выстраивается, прежде всего, за счет соотношения различных перспектив видения универсума (чаще всего – принадлежащих одному «я», которое изменяет ракурсы и планы собственной «точки зрения»). В свою очередь, ценностная экспрессия определяет принципы
универсализации такого высказывания: включение «чужой» аксиологии в собственную систему ценностей в качестве абсолютной константы своего бытия порождает идеологему нераздельности разнородных сознаний, находящихся в принципиальном поэтическом диалоге. Соответственно, «точка зрения» и «интенция» находятся в отношениях не взаимозаменяемости, а взаимодополнения, обусловливая различные векторы смысло-порождения и оказываясь разнородными, но равноценными параметрами формирования художественной идеологии в лирике.
Кроме того, следует констатировать, что интенциональная природа организации лирического произведения всецело зависит от параметров «точки зрения» как идеологической перспективы видения универсума. Конфигурация различных субъектных и персональных позиций, реализуемых, прежде всего, структурно (в темпоральном, пространственном, психологическом планах), обеспечивает формирование поэтической идеологии, которая в свою очередь маркируется определенным экспрессивным взаимопроникновением «я» и «другого». По сути, можно утверждать, что «интенция» порождается «точкой зрения», задает смысловое направление дальнейшего развития лирического сюжета и, следовательно, влияет на последующую трансформацию перспективы высказывания.
Список литературы «Точка зрения» и «интенция» в структуре лирического произведения (к вопросу о соотношении понятий)
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М. 1970. С. 320
- Корман Б.О. Лирика Некрасова. Ижевск, 1978; Успенский Б.А. Поэтика композиции. СПб., 2000; Шмид В. Нарратология. М., 2003
- Сильман Т.И. Заметки о лирике. Л., 1977. С. 9
- Корман Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов//Проблемы истории критики и поэтики реализма. Куйбышев, 1981. С. 51
- Корман Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов//Проблемы истории критики и поэтики реализма. Куйбышев, 1981. С. 51
- Бройтман С.Н. Русская лирика XIX -начала XX века в свете исторической поэтики. Субъектно-образная структура. М., 1997. С. 26
- Бройтман С.Н. Русская лирика XIX -начала XX века в свете исторической поэтики. Субъектно-образная структура. М., 1997. С. 26
- Бройтман С.Н. Русская лирика XIX -начала XX века в свете исторической поэтики. Субъектно-образная структура. М., 1997. С. 27
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности//Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 229
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности//Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 173
- Бройтман С.Н. Русская лирика XIX -начала XX века в свете исторической поэтики. Субъектно-образная структура. М., 1997. С. 177
- Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем: в 15 т. Т. 1. Л., 1981. С. 43
- Бройтман С.Н. Русская лирика XIX -начала XX века в свете исторической поэтики. Субъектно-образная структура. М., 1997. С. 28
- Бройтман С.Н. Русская лирика XIX -начала XX века в свете исторической поэтики. Субъектно-образная структура. М., 1997. С. 267
- Гаспаров М.Л. Осип Мандельштам. Три его поэтики//Гаспаров М.Л. О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. СПб., 2001. С. 215
- Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. М., 1993. С. 138
- Черашняя Д.И. Поэтика Осипа Мандельштама: субъектный подход. Ижевск, 2004. С. 45
- Козицкая-Флейшман Е.А. «Я был как все»: о некоторых функциях лирического «ты» в поэзии И. Бродского//Поэтика Иосифа Бродского. Тверь, 2003. С. 107-127
- Корчинский А.В. «Событие письма» и становление нарратива в лирике Бродского//Критика и семиотика. 2003. Вып. 6. С. 56-66
- Радбиль Т. «Речь от второго лица»: образ адресата в лирике И. Бродского//Иосиф Бродский: стратегии чтения. М., 2005. С. 39-43
- Чевтаев А.А. Инстанция адресата в повествовательной поэзии И. Бродского (К проблеме формирования диалогических отношений)//Филологические записки. СПб., 2007. С. 12-18
- Бродский И.А. Сочинения Иосифа Бродского: в 7 т. Т. 4. СПб., 2001. С. 130
- Бродский И.А. Сочинения Иосифа Бродского: в 7 т. Т. 4. СПб., 2001. С. 130
- Корчинский А.В. «Событие письма» и становление нарратива в лирике Бродского//Критика и семиотика. Вып. 6. Новосибирск, 2003. С. 65