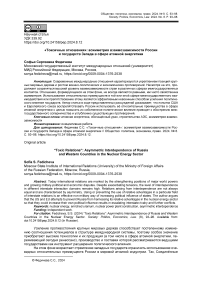"Токсичные отношения": асимметрия взаимозависимости России и государств Запада в сфере атомной энергетики
Автор: Федичева С.С.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
Современные международные отношения характеризуются укреплением позиций крупных мировых держав и ростом военно-политических и экономических противоречий. Несмотря на это, продолжает сохраняться высокий уровень взаимозависимости стран в различных сферах межгосударственных контактов. Отношения, формирующиеся на этом фоне, не всегда являются равными, им часто свойственна асимметрия. Использование относительных преимуществ в той или иной сфере межгосударственного взаимодействия или препятствование этому является эффективным невоенным способом усиления политического влияния государств. Автор статьи в ходе представленных рассуждений доказывает, что попытки США и Европейского союза воспрепятствовать России использовать её относительные преимущества в сфере атомной энергетики с целью повысить их собственное политическое влияние приводят к обострению межгосударственного соперничества и углублению существующих противоречий.
Атомная энергетика, обогащённый уран, строительство аэс, асимметрия взаимозависимости
Короткий адрес: https://sciup.org/149146122
IDR: 149146122 | УДК: 339.92 | DOI: 10.24158/pep.2024.8.12
Текст научной статьи "Токсичные отношения": асимметрия взаимозависимости России и государств Запада в сфере атомной энергетики
,
,
Усиление противостояния крупных мировых держав способствует постепенному изменению соотношения потенциалов в структуре международной системы, поэтому особое значение приобретают высокие технологии и их продукция (в том числе в сфере атомной энергетики, переживающей сегодня ренессанс), производство и поставки которой рассматриваются ведущими государствами как инструмент расширения политического влияния.
На этом фоне возрастает стремление западных государств ограничить использование очевидных относительных преимуществ России в мировой атомной индустрии. Так, Соединённые
Штаты, открыто заявляя о намерении возвратить себе статус лидера в атомной сфере и необходимости «потеснить» Россию на мировом рынке энергетики1, налагают ограничения на импорт урановой продукции из нашей страны. Европейский союз рассматривает зависимость от российских ядерных технологий и поставок природного урана как серьёзный вызов своей безопасности2, и поэтому целый ряд государств – участников объединения ввел различного рода запреты на участие российских компаний в тендерах на строительство атомных электростанций (АЭС).
В отечественной и зарубежной литературе исследователями неоднократно поднимались вопросы асимметричной взаимозависимости в отношениях между государствами (Братерский, 2017; Keohane, Nye, 2000). Ряд работ посвящён анализу ее использования в качестве политического рычага влияния в энергетической сфере (Binhack, Tichý, 2012; DaDalt, Park, 2020). Тем не менее превращение высокотехнологичных атомных технологий и урановых продуктов в инструмент политического давления в условиях роста международной напряженности ещё недостаточно исследовано.
В этой связи в данной статье мы ставили своей целью доказать, что попытки США и ЕС воспрепятствовать России использовать её относительные преимущества в сфере атомной энергетики с целью повысить их собственное политическое влияние приводят к обострению межгосударственного соперничества и углублению существующих противоречий.
В настоящей работе был использован метод «кейс-стади» для изучения особенностей взаимозависимости России и западных государств в области атомной энергии на конкретных примерах межгосударственных контактов.
Согласно теории комплексной взаимозависимости, поведение государств определяется не их внутренними характеристиками и потенциалом (военным, экономическим и т.д.), а самой взаимозависимостью, которая, однако, не только предоставляет государствам дополнительные возможности, но и создает определённые проблемы.
Р. Кеохейн и Дж. Най обозначают два уровня зависимости государства от контрагента: чувствительность и уязвимость (Keohane, Nye, 2000: 10). В первом случае при разрыве связей государство может компенсировать потери по приемлемой цене, например, найти новые рынки сбыта, другого контрагента, иные источники финансирования. Во втором – ему сложно полностью компенсировать потери или для страны слишком высока цена (Baldwin, 1980: 475). Обычно подобная ситуация возникает при отсутствии альтернативы существующему сотрудничеству. При этом государство оказывается во власти своего контрагента, который может начать диктовать ему свои условия (Deutsch, 1954).
Таким образом, отношения, сформировавшиеся в результате взаимозависимости, не всегда являются равными. Иными словами, возникает их асимметрия. При этом у государств появляется желание воспользоваться взаимозависимостью в политических целях. С одной стороны, страны, имеющие относительные преимущества в той или иной сфере (например, в энергетической), стремятся максимально задействовать их в собственных интересах. С другой – для государств, являющихся относительно слабыми в тех же сферах, основной задачей становится снижение собственной чувствительности и уязвимости, например, путём ограничения доступа к внутренним рынкам или введения санкций, чем минимизировать свои потери и максимизировать их для соперника (Братерский, 2017: 16–17).
Для понимания процессов, происходящих во взаимоотношениях государств в области атомной энергетики, необходимо рассмотреть текущее состояние отрасли. Современную эпоху принято считать атомным ренессансом (Ергин, 2023: 390). Небывалый рост цен на все энергоносители (в первую очередь на углеводородное топливо), обусловленный отраслевым кризисом, начавшимся в 2021 г. и усилившимся в связи с изменением текущей геополитической ситуации в мире, способствовал развитию атомной энергетики. Климатическая повестка и декарбонизация экономики также привели к возвращению интереса государств к атомной энергетике. И если после аварий на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима» она рассматривалась рядом государств как представляющая серьёзную опасность с точки зрения загрязнения окружающей среды, а также вреда здоровью и продолжительности жизни населения, то в настоящее время наблюдается обратная тенденция.
Россия обладает целым рядом конкурентных преимуществ, в частности, она является лидером в зарубежном строительстве АЭС и поставках низкообогащенного урана. На её долю приходится 76 % зарубежных проектов, находящихся в разработке, в том числе в Венгрии, Китае,
Индии, Турции, Египте, Бангладеш. Российская компания «Техснабэкспорт» производит около 40 % мирового обогащённого урана, а используемая ею технология газового центрифугирования является наиболее эффективной в мире. Россия – основной поставщик ядерного топлива для реакторов советского и российского производства (17 %1), а в результате разработки новых топливных сборок «ТВС-КВАДРАТ» сегодня она в состоянии поставлять урановое топливо и для реакторов западного производства.
До последнего времени СССР, а затем и Россия активно сотрудничали с государствами Центральной и Восточной Европы в сфере строительства АЭС и поставок ядерного топлива для работы реакторов. Однако в течение последнего десятилетия наблюдается процесс ограничения присутствия России на рынке современных ядерных технологий, продуктов и услуг в Европейском союзе. В частности, это проявляется во введении запрета на участие Москвы в тендерах на строительство АЭС в европейских государствах.
Обычно при выборе зарубежной компании-генподрядчика государством-заказчиком объявляется тендер, и в результате конкурентной борьбы одна из компаний становится его победителем. Заявку на участие может подать любая компания, соответствующая условиям тендера и определённым техническим требованиям. Однако начиная с 2020-х гг. страны Европейского союза при объявлении тендера выдвигают дополнительное условие: к участию в нем не допускаются компании из России и Китая. Так, принятый правительством Чехии в сентябре 2021 г. «низ-коуглеродный закон» исключил российские и китайские компании из числа потенциальных участников строительства энергоблока «Дукованы-5». Причина, названная представителями правительства, – соображения безопасности2. В июне 2023 г. правительство Словении заявило, что к участию в строительстве энергоблока «Кршко-2» будут допущены только западные компании, в том числе японские и южнокорейские3. В январе 2024 г. в финской прессе появилось сообщение об отказе Финляндии по геополитическим причинам от поставок ядерных реакторов из России и Китая для строительства новой АЭС4. В том же месяце Болгария отказала российским компаниям в участии в процедуре выбора генподрядчика для возведения нового энергоблока «Козлодуй-7»5. В мае 2024 г., комментируя решение правительства Словакии о планах по строительству энергоблока «Богунице-5», министр экономики Д. Сакова исключила возможность участия в строительстве АЭС российских компаний по политическим соображениям6.
Хотя сама по себе конкурентная борьба должна носить деполитизированный характер, а круг участников в условиях свободного рынка – складываться стихийно, рассмотренные выше примеры демонстрируют переход от экономически обусловленного противостояния неограниченного круга акторов к политизированному с участием одной или сразу обеих диад «Запад – Россия» и (или) «Запад – Китай». Таким образом, международная конкуренция перерастает в соперничество. При этом выбор России в качестве компании-генподрядчика для сооружения атомных энергоблоков в странах ЕС в конечном счёте переходит в разряд проблем, представляющих угрозу национальной безопасности. И, поскольку в сфере строительства АЭС и поставок ядерного топлива для реакторов Россия обладает значительными относительными преимуществами в сравнении с европейскими странами, последние стремятся избежать возникновения собственной чувствительности и уязвимости от России, попросту не допуская на свой рынок ее компании.
Более 40 лет назад в США начала складываться ситуация, приведшая к тому, что страна практически утратила свой производственный потенциал в сфере обогащения урана и оказалась в ситуации уязвимости и чрезвычайной зависимости от импорта урановой продукции из Европейского союза и России.
В конце 1980 – начале 1990-х гг. в США стал ощущаться дефицит урановой продукции, и американские АЭС вынуждены были закупать низкообогащённый уран у иностранных поставщи-ков7, в том числе у СССР, который с 1990 г. начал активно экспортировать его в США.
Вследствие резкого падения в Америке цен на услуги по обогащению урана ввиду высокой конкуренции в этом секторе мирового рынка1 в июне 1992 г. Министерство торговли США ввело антидемпинговую пошлину в размере 115,82 % на экспорт природного и низкообогащённого урана из шести государств СНГ, в том числе из России, что фактически сводило на нет импорт отечественного низкообогащённого урана в США и, по сути, препятствовало реализации Соглашения ВОУ-НОУ2.
После подписания в октябре 1992 г. Соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении поставок урана (СПАР)3 заградительная пошлина была снижена. Согласно документу, стороны периодически корректировали квоты на основе цен на природный уран на рынке США и прогнозов развития мировой атомной энергетики.
Благодаря принятию поправки к СПАР в 2008 г. Россия смогла продолжить поставки низ-кообогащённого урана в США и после завершения в 2013 г. действия Соглашения ВОУ-НОУ вплоть до 2020 г. в пределах до 20 % от общего объёма низкообогащённого урана, необходимого для удовлетворения потребностей атомной отрасли США. В 2020 г. США и Россия продлили СПАР до 2040 г.4, что позволяло нашей стране сохранить свои позиции на американском рынке поставщиков ядерной продукции, а самим США – ограничить свою зависимость от импорта российского низкообогащённого урана.
В связи с необходимостью обеспечения беспрерывной работы американских АЭС (США занимает первое месте в мире по количеству ядерных реакторов), а также с тем, что национальная атомная индустрия США не могла составить конкуренцию российским и европейским поставщикам на мировом рынке ядерной продукции и её развитие требовало больших финансовых вложений, в определённый момент объём импорта урановой продукции в США составил более 80 %. Соединённые Штаты практически прекратили выпуск собственной урановой продукции и почти утратили свой производственный потенциал в сфере обогащения урана. Таким образом, страна оказалась в ситуации уязвимости и чрезвычайной зависимости от импорта низкообогащенного урана.
В 2019 г., когда было признано, что значительные объёмы ввозимого в Соединённые Штаты урана могут привести к подрыву национальной безопасности государства5, по инициативе Д. Трампа была создана рабочая группа по ядерному топливу. В представленном ей в 2020 г. докладе «Восстановление конкурентного преимущества атомной энергетики Америки: стратегия обеспечения национальной безопасности США»6 подчеркивалось, что американская атомная индустрия находится на грани краха и что США могут лишиться возможности производить собственное ядерное топливо, если не будут предприняты соответствующие меры7. Так, в докладе говорилось, что одной из основных причин провала американской энергетической политики является «агрессивная» и «преднамеренная» стратегия России и Китая в отношении Соединённых Штатов в атомной сфере8, поэтому США необходимо вытеснить эти два государства с мирового ядерного рынка9, а также ввести запрет импорта российской ядерной продукции для защиты американских национальных интересов10.
Действующая администрация президента и правительство США продолжают придерживаться выбранного ранее курса в отношении атомной отрасли. По словам заместителя министра энергетики США К. Хафф, зависимость США от ядерного топлива из России представляет собой серьёзнейшую угрозу национальной безопасности США и решения важнейших задач в области борьбы с изменением климата, поскольку Россия располагает почти 50 % мировых обогатительных мощностей, которые она в течение многих лет использует для подрыва американских цепочек ядерных поставок посредством осуществления дешёвых поставок обогащённой урановой продукции1. С целью снизить подобную зависимость в мае 2024 г. в США был принят федеральный закон, в соответствии с которым запрещается импорт низкообогащённого урана из России2. Таким образом, положения СПАР, определяющие ежегодные ограничения на импорт урановой продукции до 2040 г., потеряли силу. Закон о запрете импорта урана заменил их ежегодными ограничениями импорта урановой продукции, охватывающими период с 2024 по 2027 гг.3
В рамках принятого документа планируется направить 2,7 млрд долларов на строительство новых мощностей и создание необходимой инфраструктуры для восстановления топливного цикла США4. Кроме того, поскольку даже с учётом увеличения производства обогащённого урана, Америка с трудом сможет покрыть импорт, США и ЕС приступили к решению другой масштабной задачи – наращиванию европейских поставок урановой продукции в Соединенные Штаты. Б. Шухт, исполнительный директор компании «Уренко», заявил, что принятие США закона о запрете импорта урана из России будет способствовать укреплению цепочек поставок ядерного топлива государств Запада, тем самым обеспечит долгосрочный доступ к обогащенному атомному ресурсу5.
Несмотря на увеличение собственных мощностей, на фоне принятия закона о запрете поставок в США российского урана, который вступил в силу в августе 2024 г., американские компании стремятся воспользоваться имеющейся в законе оговоркой6, согласно которой низкообогащённый уран (до 470 кг в течение календарного года) может закупаться в России в период до 2027 г.7 Это объясняется неуверенностью в том, что единственные альтернативные «Росатому» поставщики урановой продукции в США – компании «Уренко» и «Орано» – смогут достаточно быстро нарастить производство низкообогащённого урана для экспорта в США, чтобы заполнить вакуум, который образуется после вступления в силу закона о запрете поставок российского урана.
Действия США, направленные на ограничение взаимодействия с Москвой в атомной сфере, и последующее введение санкций на поставки урана демонстрируют, что в отношениях России и США по вопросам поставок урановой продукции возникла асимметрия взаимозависимости, и вопрос перешёл из экономической плоскости в политическую (Боровский, 2019: 57). Стремление США в долгосрочной перспективе снизить уязвимость от импорта низкообогащенного урана из России приводит к значительным материальным потерям, поскольку конкурентоспособность отечественной урановой продукции значительно выше европейской. При этом, введя запрет на российские поставки низкообогащённого урана, США не только несут существенные материальные издержки, но и ставят под сомнение бесперебойное функционирование национальной атомной индустрии.
Укрепление позиций крупных мировых держав, а также стремление всё большего числа малых и средних государств к участию в мировой политике вызвали процесс переформатирования международной системы, одной из особенностей которой на современном этапе является возрастающая асимметрия взаимозависимости государств.
Трансформации, происходящие в международной среде, а также нарастающие политические и экономические противоречия затронули напрямую сферу атомной энергетики, переживающую в настоящее время ренессанс. Россия занимает лидирующее положение в атомной отрасли и располагает целым рядом относительных преимуществ по основным направлениям, в частности, в области строительства АЭС, обогащения урана и производства ядерного топлива.
Возрастающая асимметрия взаимозависимости в сфере атомной энергетики приводит к тому, что государства пытаются использовать её в политических целях, применяя в качестве инструментов санкции и запреты, а также ограничивая контрагенту доступ к собственным рынкам. Так, начиная с 2021 г., государства Европейского союза неоднократно вводили запрет на участие России в тендерах на строительство АЭС, а в мае текущего года запретили импорт российского низкообогащённого урана.
В результате межгосударственное взаимодействие в атомной отрасли переходит из области сотрудничества в область соперничества. Стремясь сократить собственную уязвимость, а также нанести государству-антагонисту максимальный ущерб, страны начинают придерживаться внешнеполитического курса, идущего вразрез с законами рынка и способного подорвать их экономику, а также снизить политическое влияние.
Список литературы "Токсичные отношения": асимметрия взаимозависимости России и государств Запада в сфере атомной энергетики
- Боровский Ю.В. Советский и российский ТЭК как объекты западных санкций: политическое соперничество или экономическая конкуренция // Вестник МГИМО-Университета. 2019. № 3 (66). С. 42-60. DOI: 10.24833/2071-8160-2019-3-66-42-60 EDN: VMQUIQ
- Братерский М.В. Политические конфликты в условиях взаимозависимости: новые формы внешней политики в XXI веке // Актуальные проблемы Европы. 2017. № 1. С. 15-33. EDN: YFTVOL
- Ергин Д. В поисках энергии. Ресурсные войны, новые технологии и будущее энергетики. М., 2023. 720 с.
- Baldwin D.A.Interdependence and Power: a Conceptual Analysis // International Organization. 1980. № 34 (4). P. 471-506. DOI: 10.1017/s0020818300018828
- Binhack P., Tichý L. Asymmetric Interdependence in the Czech-Russian Energy Relations // Energy Policy. 2012. № 45. P. 54-63. DOI: 10.1016/j.enpol.2012.01.027 EDN: QUUXJY
- DaDalt A., Park S.-H. Asymmetric Interdependence and the Politics of Energy in Europe: Hirshman's "Influence Effect" Redux // Journal of International Relations and Development. 2021. № 24. P. 101-127. DOI: 10.1057/s41268-020-00184-x EDN: GBNNDO
- Deutsch K.W. Political Community at the International Level: Problems of Definition and Measurement. N. Y., 1954. 70 р.
- Keohane R.O., Nye J. Power and Interdependence. L., 2000. 334 p.