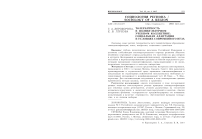Толерантность в поликультурном учебном коллективе: социальная адаптация в условиях современного вуза
Автор: Хорохорина Галина Анатольевна, Глухова Елена Владимировна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социология региона
Статья в выпуске: 2 (99) т.25, 2017 года.
Бесплатный доступ
Регион, толерантность, вуз, поликультурное образование, самоидентификация, этнос, социальная адаптация
Короткий адрес: https://sciup.org/147222762
IDR: 147222762 | УДК: 316.354:378
Текст статьи Толерантность в поликультурном учебном коллективе: социальная адаптация в условиях современного вуза
Введение: глубоко полиэтничное население Российской Федерации в условиях глобализации постиндустриального периода развития общества неизбежно переживает период распадения его населения на ряд ингрупп и аутгрупп. Дисгармония во взаимодействии между «принимающей» частью населения и маргинализированными группами во многом определяется различными принципами самоидентификации, превалирующими в их среде, неприятием толерантности в качестве императива.
Материалы и методы: в статье представлены материалы анкетирования, проведенного в 2016 г. в городах Москва, Саранск, Сургут. Для выявления превалирующих в студенческой среде принципов самоидентификации и локализации их структурных компонентов использовались свободный ассоциативный эксперимент и модифицированный тест М. Куна — Т. Мак-партленда. Для систематизации полученных в ходе анкетирования данных применялись методы анализа, синтеза и сравнения.
Результаты исследования: анализ полученных в ходе исследования данных позволил констатировать разные принципы самоидентификации для основных групп респондентов, условно разделенных на «носителей исламского вероучения» и «носителей иных вероучений и атеистов». Анализ восприятия феномена «толерантность» продемонстрировал его понимание испытуемыми в качестве «терпимости», обусловленной нуждами государства, а не личным выбором.
ХОРОХОРИНА Галина Анатольевна, доцент кафедры иностранных языков № 2 Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, кандидат исторических наук (117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., 36) (e-mail: . ORCID:
ГЛУХОВА Елена Владимировна, научный сотрудник Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат географических наук (119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1) (e-mail: evglukhova@ . ORCID:
Обсуждение и заключения: предложенное социолингвистическое исследование позволяет практически в режиме реального времени локализовать назревающие в полиэтничном образовательном коллективе противоречия по этноконфессиональному признаку и своевременно нивелировать ситуацию. Региональная выборка показала типичность полученных результатов, что опровергло гипотезу о возможной региональной обусловленности специфики взаимодействия в полиэтничных социумах. Возможность гармонизации сосуществования различных поликультурных групп требует переосмысления сущности феномена «толерантность», оптимальное формирование которого мыслится в условиях поликультурного образования в ситуации внимания к ценностным установкам, присваиваемым каждой конкретной личностью, развития ее комплексного мышления.
Введение. Тотальная глобализация и информатизация современного социума обусловила не только его глубокую мозаичность, но и проблему сосуществования поликультурных этнических общностей в рамках единого национального образования. Несмотря на активно пропагандируемые идеи мультикультурализма, толерантности и необходимости мирного сосуществования, расширение этнокультурного плюрализма приводит к столкновению разновекторных мировоззрений, порожденных этнокультурной реальностью их носителей.
Особую остроту сегодня этот диалог приобретает в студенческой среде, так как в период обучения в вузе социализация идет с максимальным ускорением. Более того, вуз как социальный институт, изначально включающий в поле своего влияния представителей различных культур и этносов, выступает в качестве перекрестка «этнокультурных миров». Поликультурные учебные коллективы в условиях информационного этапа развития общества — это не дань моде, а социальная реальность, обусловленная логикой общественного развития. Вместе с тем характер взаимодействия представителей различных этнокультурных общностей маркируется социально-политическими событиями, происходящими как в мире, так и в границах каждого конкретного государства и его регионов. По сути, в условиях глобализации любое внешнеполитическое событие, вовлекающее в свою орбиту конкретную этническую или религиозную группу, определяет общие тренды отношения к ней в мировом масштабе.
Все большее развитие получают демонизация мусульман и порожденное ею настороженное отношение к иммигрантам, активно прибывающим в развитые страны мира из мусульманских регионов. Безусловно, исторические реалии и устоявшиеся паттерны взаимоотношений между различными этническими и этноконфессиональными общностями на территории каждого государства существенно влияют на общественное мнение его населения, но и оно не может полностью нивелировать негативные отношения, порождаемые в среде «принимающих обществ» под воздействием политики современных средств массовой информации, тиражирующих неверифицированную информацию.
Кроме того, деактуализация этничности и религиозности, свойственная XX в. и основанная на неизбежности преодоления в ходе социального прогресса этническими группами своих этнокультурных границ и создании надэтничной гражданской нации, привела к акцентуации этничности и религиозности на мировом уровне, их трансформации в определяющие факторы развития современной государственности, когда поступательное растворение этничности и культурной автономии и связанной с ними традиции в единой национальной общности с последующим формированием глобального сверхнационального общества с единой общечеловеческой идентичностью под влиянием глобализационных процессов столкнулось с реактуализацией этнических и конфессиональных принципов самоидентификации, усилением многополярности современного социума [1, с. 486].
Обзор литературы. Проблемы сегментизации общества по этноконфессиональному признаку находятся в центре внимания ряда российских философов, политологов и историков. Основной акцент в исследовании этой проблемы реализуется в сфере смысловых полей «этничность» и «толерантность», анализа подходов к гармонизации межэтнических отношений и принципов социального управления межэтническими отношениями.
-
3. Г. Адамова указывает, что формирование новых социальных установок, связанных с изменениями в общественно-политической, экономической, культурной жизни, обусловливает переструктурирование старых и формирование новых структур сознания на базе его этнической специфики, а глобализация сознания порождает ситуации полного или частичного непонимания между участниками коммуникации, которые становятся причиной этнических конфликтов1.
Г. У. Солдатова считает, что межэтническая напряженность имеет двувекторный характер: дестабилизируя социальный микроклимат, она способствует адаптации этнической общности к кризисной ситуации2. На необходимость учета конфессиональных принципов самоидентификации в исследованиях особенностей развития поликультурных общностей указывают В. П. Ранчинский3 и Е. В. Баранова4.
Россия, население которой представляет собой одно из самых сегментированных этнокультурных образований, призвана решать проблемы, возникающие вследствие требований отдельных этноконфессиональных групп признать их этнокультурную идентичность в качестве одного из определяющих факторов социально-политического развития страны, причем на государственно-правовом уровне.
Е. В. Тихонова отмечает, что «ренессанс этнического и конфессионального самосознания привел к отказу “принимаемых” обществ от интеграции в культурную и социальную действительность “принимающих обществ”, что неизбежно обусловило конфликтогенность их коммуникации, осложнило социальное развитие общества, оказавшегося расколотым на ряд ингрупп и аутгрупп» [1, с. 486].
В качестве механизма преодоления дисгармоничного развития поликультурных сообществ долго мыслилась политика мультикультурализма. Однако вслед за ее дискредитацией в качестве официального инструмента регулирования социальной действительности в ряде европейских государств развернулась активная дискуссия о потенциале декларируемых ею положений перед лицом новых конфликтов, возникающих между населением европейских стран и иммигрантами, численность которых неуклонно растет одновременно с их желанием самоутвердиться в принимающих их социумах.
Примечательно, что позиции участников этой дискуссии существенно трансформируются в диахронном аспекте. В. А. Тишков от безусловно положительной оценки политики мультикультурализма [2] перешел к его критике и неприемлемости декларируемых им положений в российских реалиях уже в начале XXI в. [3]
Поэтому необходимы своевременное диагностирование уровня этнокультурной толерантности и поиск новых интеграционных механизмов для построения «здорового» поликультурного российского общества. Несмотря на превалирование историко-политологических и социально-политических исследований в области заявленной проблематики, все более актуальными, на наш взгляд, становятся прикладные социолингвистические изыскания, способствующие диагностированию потенциально конфликтогенных ситуаций и реализации своевременных мер по их нивелированию.
Интересен мониторинг принципов самоидентификации и существующих этнических стереотипов посредством свободного ассоциативного эксперимента с последующей его интерпретацией в русле концепции интегративной модели психологического значения смысла/концепта5 и верификацией его результатов посредством социологического анкетирования [4].
Согласно проведенному Е. В. Тихоновой в 2015 г. на базе указанной методики исследованию феномена «толерантность» в ряде вузов г. Москвы, «динамическое соотношение составляющих концепта “толерантность” не претерпело существенных трансформаций... Но наличие в ряду интегративных признаков для реакций-представлений понятий “религиозная инаковость”, “этническая принадлежность”, вкупе с преобладанием негативных и безразличных эмоций, в компоненте концепта “эмоции и оценки” может рассматриваться в качестве маркеров потенциальных латентных социальных конфликтов и свидетельствовать о достаточно стремительном снижении уровня толерантности в среде российского студенчества. Более того, толерантность... рассматривается молодежью... как стратегия социальная, групповая, требующая однозначного, зачастую радикального, претворения в жизнь...» [5, с. 287].
В контексте сказанного мы солидарны с 3. Ф. Мубиновой, считающей, что ответственность ложится на педагогическую теорию и практику, которые нуждаются в разработке и реализации соответствующих духу времени технологий воспитания подрастающего поколения, так как лишь в этом случае возможна гармонизация сложных и противоречивых внутри- и межэтнических процессов [6, с. 14].
Культурно-маркированный способ восприятия и понимания действительности, определяемый совокупностью стереотипов сознания конкретной нации, не только акцентирует для конкретного студента восприятие образовательной интеракции тем или иным способом, но и маркирует ожидаемое им поведение со стороны остальных членов учебной группы. Часто даже стиль и манера речевого или неречевого поведения коммуниканта в контексте принятой в обществе позиции в отношении той или иной этнокультурной группы способны привести к срыву образовательной коммуникации [7, с. 263].
С целью стабилизации рабочей атмосферы ввиду все более растущей мультиэтничности учебных групп необходимо диагностирование уровня взаимопонимания участников этнокультурного диалога для предотвращения возможного недопонимания [8].
Очевидно, что проблема гармоничного развития поликуль-турных социумов особенно актуальна для крупных городов, которые вследствие масштабной этнической миграции и логики экономического развития стали центрами с глубоко мозаичным социокультурным ландшафтом, абсорбирующим молодежь всего региона. Социальная мозаика подобных городов оказывается столь насыщенной, что традиционные практики оптимизации межэтнических и межрелигиозных отношений продемонстрировали неспособность к нивелированию имеющихся противоречий по этноконфессиональному признаку, в том числе в молодежной среде.
Материалы и методы. Для локализации содержания принципов этнической и конфессиональной самоидентификации в сознании молодежи различных регионов России в 2016 г. нами проведено исследование среди студентов Москвы, Саранска (Республика Мордовия) и Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). В этих городах широко представлены носители всех основных религиозных конфессий, их население отличается широкой этнической палитрой.
Рабочими гипотезами исследования стали следующие положения: а) преобладающей в среде молодежи является групповая самоидентификация, ориентированная на поляризацию «мы — они», «свое — чужое»; б) толерантность в восприятии участников исследования означает терпимость, а не уважение; признание необходимости сосуществования и искреннюю интенцию к взаимодействию; в) респонденты из разных регионов демонстрируют различный уровень толерантности в отношении к исламу и его носителям, так как в развитии российского молодежного социума находят отражение глобальные проблемы и национально-региональные особенности.
Объем выборочной совокупности составил 457 чел. (89 % — русские, 11 % — представители других народов, таких как татары, армяне, башкиры, украинцы, азербайджанцы, мордва, дагестанцы, чеченцы, осетины). В качестве метода сбора первичной социологической информации выбран опрос (анкетирование с последующим интервьюированием респондентов для получения комментариев относительно зафиксированных ассоциаций и полученных ответов).
Анкета включала два раздела: а) слова-стимулы свободного ассоциативного эксперимента, нацеленные на анализ содержания феномена «толерантность» в восприятии респондентов; б) задания модифицированного теста М. Куна — Т. Макпартленда [9] (способствует выявлению этнической и конфессиональной компоненты в содержательных характеристиках идентичности личности). Анкета носила анонимный характер, в ее легенде было необходимо указать возраст, пол, регион проживания, вероисповедание, этническую принадлежность, зафиксировать успеваемость по учебным предметам в диапазоне «удовлетворительно — хорошо — отлично».
В рамках свободного ассоциативного эксперимента все участники исследования были проинструктированы, что напротив слова-стимула (в анкету были включены несколько слов-дистракторов и лишь одно слово-стимул «толерантность») необходимо вписать первую ассоциацию, которая приходит на ум при его прочтении.
Результаты исследования. В полученном массиве ассоциаций наибольшую частотность имели (представлены по мере убывания): терпимость/терпение, иммигранты, ислам, религия, нация, не нужна, проблема, кровь, мнение, термин, неправильно, неправда, воспитание, коллектив, политика, перебор, осторожно использовать, Европа, принятие, уважение, мудрость, не обижать, современность, понимание, раса, дружба, общество, лояльность, дружелюбие, поддержка, доброта, мнение, чурки, нерусские, нет, гуманна, качество, необходима, честность, равенство. Более наглядно это представлено на рисунке.
Показательно, что слова-ассоциации и частотность их употребления, зафиксированные в анкетах, оказались сходными в восприятии студентов всех трех регионов, что свидетельствует о совпадении стереотипов восприятия исследуемого феномена. Визуализация смыслового содержания концепта посредством облака слов способствует более глубинному его восприятию.
' п о лити ка испол ьзо вать“№^™™ неправдаМНеНИ © Ц^У й& кро в ьТе р п е н и еН to» ^перебоБГ-®© ПИМ ООТЬ ^®и м м и ispa HTBI— кр6вь|| \ /XV I I ^ нация |^"^неправильно чурКИ^:; »п у л\ п ап D О О Л 6 М d™e термин
воспитание/^.современность I религия терм и ни СЛа M№^T®e О 6 Л И ГИ ЯНС П ра В И Л Ь Н ОдруЖба (перебор необходима понимание использовать,ЧеСТНОСТЬКаЧеСТВОпР°6лемаНуЖНа
Рисунок. Смысловое содержание концепта «толерантность» в восприятии студентов
Необходимо отметить, что процент участников, полагавших толерантность «уважением, дружелюбным отношением, необходимым компонентом реальности», включал преимущественно студентов, указавших свою успеваемость как «хорошую» и «отличную». Поэтому поликультурное образование могло бы значительным образом стабилизировать этноконфессиональный климат поликультурных обществ.
В структуре концепта преобладающими выступили представления, но большая их часть оказалась объединена интегративным признаком «проблема», что свидетельствует о наличии поля напряженности вокруг указанного феномена. Потенциальная конфликтогенность не может не актуализировать защитные механизмы в восприятии проблемы, транслируемые посредством релевантных принципов самоидентификации. Для выявления содержания принципов самоидентификации на втором этапе исследования его участникам было предложено 16 раз ответить на обращенный к себе вопрос «Кто Я?» и дать эмоциональную оценку каждому из ответов в диапазоне от 1 до 3 баллов (1 балл — негативные эмоции, вызванные ответом, 2 — нейтральное восприятие ответа, 3 — позитивные эмоции). Ответы рекомендовалось фиксировать в порядке их продуцирования.
Ответы анализировались в соответствии с распределением испытуемых на две группы (группа последователей ислама (35,0 % опрошенных) и группа последователей «иных» религий и атеистов), так как существенные различия были зафиксированы только по этому критерию. При этом распределение респондентов по регионам не позволило обнаружить важных различий.
Свою этническую принадлежность четко идентифицировали 53,0 % студентов. Некоторые указали в этой графе «студент», «житель Земли», «европеоид», «метис». Полученные данные свидетельствуют об актуализации этноидентичности в среде студенчества всех регионов, представленных в исследовании. Высокая значимость этнического «Я» свидетельствует о наличии осознания напряженности в межэтнических отношениях. Градация характера эмоционального восприятия своей этнической самоидентификации продемонстрировала, что большинство участников исследования (83,0 %) испытывает положительные эмоции, связанные с собственной этнической принадлежностью, 11,0 % — нейтральные, 6,0 % — негативные.
О своей конфессиональной принадлежности четко заявили 57,0 % респондентов исследования, причем в эту цифру вошли 34,3 % всех мусульман, принявших участие в исследовании. Это, как указывает Е. В. Баранова, свидетельствует о превалировании конфессиональных принципов самоидентификации в среде последователей ислама6. Интересно, что все мусульмане маркировали свою конфессиональную принадлежность позитивными эмоциями. В массиве всех опрошенных, указавших свою конфессиональную принадлежность, лишь 3,0 % участников зафиксировали нейтральные эмоции, все остальные маркировали свою религиозность положительно.
Большинство опрошенных (89,1 %) в процессе интервьюирования актуализировали противопоставление «свои — чужие», 9,8 % не смогли дать однозначный ответ о сути своего отношения к этой проблеме. Все респонденты отмечают в качестве наиболее значимых этнокультурных различий особенности манеры общения, внешний вид, язык, культурно- или религиозно-маркированную одежду. Наибольшее раздражение, по мнению опрошенных, вызывает стремление групп меньшинств придерживаться национальных и религиозных традиций в сфере публичной общественной жизни. Особое неодобрение вызывает использование в общении родного языка, непонятного для окружающих.
Несмотря на то что около 49,0 % участников исследования полагают подобные различия ожидаемыми, 41,0 % считает их необходимым условием социального развития, 10,0 % опрошенных продемонстрировали четкое неприятие инаковости, желание ее нивелировать. Значительная часть респондентов указала на необходимость усиления влияния правительства на гармонизацию социального развития в поликультурных общностях: введение системы жесткого контроля и наказаний за нелегальный въезд в страну и пропаганду незаконной деятельности, противоречащей законам российской государственности; контроль за деятельностью средств массовой информации, разжигающих этнокультурную рознь; внимание изучению сути иных культур и религий.
Более 60,0 % респондентов указали, что оптимальной траекторией достижения социальной стабильности и согласия в обществе является обучение уважению к иной точке зрения уже с момента рождения посредством воспитания в семье и дальнейшей социальной адаптации в образовательных учреждениях. Одним из самых важных комментариев, на наш взгляд, является апелляция к необходимости получения качественного образования, поскольку оно, по мнению респондентов, значительно расширяет горизонты толерантности, которая базируется на подлинном понимании сути иной культуры или религии, а не на домысливании непознанного, неосознанного и стереотипизации.
Обсуждение и заключения. Можно констатировать, что подтверждение получили не все выдвинутые нами гипотезы: четкого регионального разграничения в отношении к заявленной проблематике выявлено не было.
Вопросы веры и духовности приобретают всю большую актуальность в среде российской молодежи. «Нивелирование намечающейся настороженности в отношении религиозного фактора требует от современных образовательных учреждений гибкой, но целенаправленной политики, поскольку роль духовного фактора в жизни глубоко практичного общества современности под воздействием дестабилизирующих политических факторов будет только усиливаться и непонимание сущности того или иного верования может настолько сместить социальный баланс, что полноценная коммуникация (в том числе и образовательная) окажется проблематичной» [10, с. 475].
Проблема исследования этноконфессионального фона образовательного процесса актуальна в связи с трансформацией этнокультурных различий в реальные субъекты современной политики и социально-исторической динамики. Новые социальные процессы, происходящие в современной России, связанные с изменением сущности принципов самоидентификации ее населения, базируются на уже потерявших силу стереотипах. Иными словами, представление индивида об этнической или этноконфессиональной общности складывается еще до непосредственных контактов с ее представителями, а сами контакты отягощаются стере- отипизированными воззрениями. Актуализация последних акцентировала культурные, идеологические и поведенческие аспекты сосуществования поликультурного социума в качестве провоцирующих маргинальное состояние отдельных его общностей.
В Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО7 термин «толерантность» определяется «как терпимость к чужим мнениям или верованиям, а также как терпимое, уважительное отношение к людям, признание права каждого человека на индивидуальное поведение в рамках законов, принятых обществом... Толерантность — широкое понятие, оно включает гендерную, поколенную, социальную, конфессиональную, этническую толерантность. Этническая толерантность признает наличие другого образа жизни и этнокультурных ценностей» [11, с. 77—78]. Вместе с тем толкование толерантности в качестве терпимости значительно дискредитирует саму ее концепцию. Необходима акцентуация взаимного уважения и понимания в качестве сущности толерантности. Современная молодежь, как правило, ориентируется не на высокие моральные идеалы, а на создание комфортного для себя социального окружения. Отсюда, будучи воспитанными под лозунгами терпимости, ее представители воспринимают «иное» как чужеродное, угрожающее комфорту, а не как интегративную часть социальной реальности.
Основным этапом в изменении сложившегося положения вещей мы понимаем реализацию корректной социальной адаптации в условиях поликультурного образования и воспитания. Социальная адаптация интерпретируется нами в качестве процесса интеграции индивида в социум, сопровождаемого формированием толерантного самосознания и ролевой иерархии как базиса самоконтроля и адекватной коммуникации с окружающими.
Поликультурное образование мыслится в качестве наиболее действенного механизма педагогической практики. Являясь сложной и многоуровневой системой педагогики в многокультурном сообществе, оно ориентировано «на формирование подрастающего поколения, не только хорошо знающего культурные и языковые особенности своего и иных народов, конфессий, гендерных и социальных групп, но и понимающего эту специфику, а также проявляющего в реальной жизни толерантное отношение к ним, осуществляющего установки мира и согласия в общении с ними» [6, с. 18].
Для превращения культурного многообразия в фактор гармоничного развития общества представляется необходимым повышение мультикультурной компетентности каждого члена. Отсюда ключевой мыслится роль его конкретного индивида в преодолении этнокультурного недоверия и движения к социальной интеграции. Такой подход способен принести наибольшие плоды в контексте развития в среде молодежи комплексного мышления, не имитирующего мыслительный процесс и присваивающего «удобную» точку зрения, но продуцирующего собственную позицию, основанную на умении корректно обрабатывать информацию сквозь призму нелинейного мышления [12].
Сейчас коммуникативный фон поликультурного социума дестабилизирует, помимо указанных причин, существование ряда интолерантных идеологий по отношению к «иному» в молодежных субкультурах. Именно визуальная манифестация этнокультурной инаковости вызывает основное отторжение в молодежной среде. Проникновение в повседневную практику элементов традиционного культурного уклада «принимаемых» общностей часто воспринимается молодежью в качестве сознательного противопоставления основаниям «титульной» культуры. Это приводит к наложению на этнический компонент инаковости культурно-маркированных факторов дестабилизации социального взаимопонимания [4, с. 139].
В России, где проживает большое количество самых разных этнокультурных и этноконфессиональных групп, этноконфессиональные различия являются не только символическим культурным ресурсом, но и реальным фактором социального развития, по сути, политическим ресурсом. Необходимо формирование в среде российской молодежи понимания целостности гражданского сообщества в качестве стратегического фактора социально-политического развития государства, его имиджа на мировой арене: только общество, представляющее собой не сумму этнических групп, носителей разных исторических судеб и специфических культурных ценностей, а единый конгломерат, реализующий взаимодей- ствие между своими компонентами на основании истинного понимания и уважения, способно преодолеть глобальные конфликты по этнокультурному признаку. Стремление противопоставить одни этнокультурные общины другим на основании их уникальности ведет к развитию интолерант-ности и размыванию гражданской солидарности.
Ценностные идеалы личности, мотивы ее деятельности, понимание себя в мире и мира вокруг себя, способность к преодолению собственных стереотипов и предубеждений, способность к позитивному взаимодействию с социальным окружением выступают в качестве ключевых блокпостов на пути к построению сбалансированного поликультурного общества. Главное внимание необходимо уделять именно формированию толерантного мировидения каждой конкретной личности. Групповая идентичность и связанная с нею групповая толерантность оказались не способны преодолеть узкопрактические групповые интересы, обусловив возникновение маргинальных этнокультурных и религиозных групп. Речь идет именно о взаимном движении к толерантному мировосприятию: маргинальные аутгруппы сегодня демонстрируют жесткое стремление к самоутверждению в своем социальном окружении, что не может не привести к конфликтам с принимающими обществами. Отсюда студенческим группам, включающим представителей из потенциальных аутгрупп, необходимо уделять наиболее пристальное внимание в рамках поликультурного образования, формируя толерантность нового типа, избегая стереотипизации мировосприятия.
Список литературы Толерантность в поликультурном учебном коллективе: социальная адаптация в условиях современного вуза
- Тихонова Е.В. Стереотипизация и дискриминация этнокультурных групп: «отмывание информации» и «язык вражды» новых медиа // Мировое культурно-языковое и политическое пространство: инновации в коммуникации: сб. науч. тр. М.: РУДН, 2015. С. 485-503. URL: http://imfl.sci.pfu.edu.ru/wp-content/uploads/2017/05/l.pdf (дата обращения: 01.12.2016).
- Тишков В.А. Этнология и политика. Научная публицистика. М.: Наука, 2001. 240 с. URL: http://www.valerytishkov.ru/engine/documents/document895.pdf (дата обращения: 03.01.2017).
- Тишков В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, М.: Наука, 2003. 542 с. URL: http://www. valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/knigi/rekviem_po/rekviem_pol.html (дата обращения: 03.01.2017).
- Тихонова E.B. Этнический и религиозный компоненты идентичности в поликультурных обществах: опыт социопсихолингвистического исследования // Коммуникация в современном поликультурном мире: прагматика лингвистического знака: сб. науч. тр. / под общ. ред. Т.А. Барановской. М.: Pearson, 2015. С. 136-164. URL: http://imfl.sci.pfu.edu.ru/wp-content/uploads/2017/05/2.pdf (дата обращения: 05.01.2017).
- Тихонова Е.В. Психолингвистический анализ концепта «толерантность» в контексте «диалога культур» современных «мозаичных» социумов // Язык, литература и культура как грани межкультурного общения: Материалы международного научого семинара / отв. ред. О.Д. Вишнякова. М.: Градиент, 2015. С. 278-288. URL: http://imfl.sci.pfu.edu.rU/wp-content/uploads/2017/05/3.pdf (дата обращения: 15.01.2017).