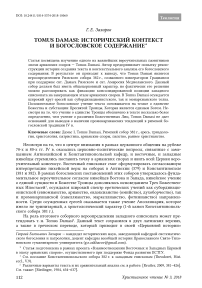Tomus damasi: исторический контекст и богословское содержание
Автор: Захаров Георгий Евгеньевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 3 (80), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению одного из важнейших вероучительных памятников эпохи арианских споров - Tomus Damasi. Автор предпринимает попытку реконструкции истории создания текста и контекстуального анализа его богословского содержания. В результате он приходит к выводу, что Tomus Damasi является вероопределением Римского собора 382 г., созванного императором Грацианом при поддержке свт. Дамаса Римского и свт. Амвросия Медиоланского. Данный собор должен был иметь общецерковный характер, но фактически его решения можно рассматривать как фиксацию консолидированной позиции западного епископата на завершающем этапе арианских споров. В Tomus Damasi осуждается широкий круг ересей как субординационистского, так и монархианского толка. Положительное богословское учение текста основывается на тезисе о единстве Божества и субстанции Пресвятой Троицы, Которая является единым Богом. Несмотря на то, что учение о единстве Троицы обозначено в тексте несколько более определенно, чем учение о различии Божественных Лиц, Tomus Damasi не дает оснований для выводов о наличии промонархианских тенденций в римской богословской традиции IV в.
Дамас i, римский собор 382 г., ересь, триадология, христология, патристика, арианские споры, папство, раннее христианство
Короткий адрес: https://sciup.org/140246568
IDR: 140246568 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10060
Текст научной статьи Tomus damasi: исторический контекст и богословское содержание
Несмотря на то, что в центре внимания в рамках церковного общения на рубеже 70-х и 80-х гг. IV в. оказались церковно-политические вопросы, связанные с замещением Антиохийской и Константинопольской кафедр, и восточные, и западные никейцы стремились поставить точку в арианских спорах и явить всей Церкви вероучительный консенсус. Восточный епископат смог сформулировать согласованную интерпретацию никейской веры на соборах в Антиохии (379) и Константинополе (381 и 382). В рамках богословских постановлений этих соборов утверждалось фундаментальное вероучительное согласие никейцев Востока и Запада, никейское учение о единой сущности и Божестве Троицы дополнялось исповеданием Трех Божественных Ипостасей1, осуждался широкий спектр еретических учений как субординаци-онистской (евномианство, арианство, евдоксианство (омийство), духоборчество), так и промонархианской (савеллианство, маркеллианство, фотинианство) направленности. Среди осужденных ересей оказывается также учение Аполлинария, которое имело не тринитарный, а христологический характер (1-й канон Константинопольского собора 381 г.).
На роль итогового соборного вероопределения западного епископата может претендовать т. н. Tomus Damasi2. Данный текст сохранился в двух латинских версиях, а также в греческом переводе, который приводит в своей «Церковной истории»
* Статья подготовлена в рамках проекта «Взаимоотношения Восточных и Западных Церквей в эпоху арианских споров», осуществляемого при поддержке Фонда развития ПСТГУ.
блж. Феодорит Кирский (Theodoret, Hist. eccl., V.11). Первая версия текста включает латинский перевод Никейского символа. К нему с помощью приписки, указывающей на созыв в Риме собора, который добавил к Никейскому символу некий текст, раскрывающий учение о Святом Духе (post hoc, concilium quod in urbe Roma congregatum est a catholicis episcopis addiderunt de Spiritu Sancto), присоединяются две серии анафе-матизмов: анафематизмы 1–8 начинаются со слова anathematizamus. Анафематизмы 10–24 содержат резолюцию: hereticus est. Исключение составляет 14-й анафематизм, направленный против утверждающих, что во время распятия страдание испытывал Бог, а не плоть и душа, которые были восприняты Христом. Этот анафематизм завершается словами non recte sentit и направлен, судя по всему, против учения Аполлинария3. 9-й «анафематизм» (если его можно так назвать) не содержит ни слов anathematizamus, ни hereticus est. Он посвящен не вероучительным, а дисциплинарным нарушениям, а именно направлен против епископов, переходящих с кафедры на кафедру (eos quoque qui de ecclesiis ad ecclesias migraverunt). Таким епископам предписывается вернуться на те кафедры, на которые они были изначально поставлены. Если же на нее уже рукоположен другой епископ, то епископ-«мигрант» (alio transmigrante) может вернуть себе престол только после его смерти (tamdiu vacet sacerdotii dignitate qui suam deseruit civitatem, quamdiu successor eius quiescat in Domino). Вторая латинская версия, в целом соответствующая и греческому переводу текста, отличается от первой, во-первых, тем, что она представляет не продолжение Ни-кейского символа, а самостоятельное исповедание веры. Причем перед указанием на созыв Дамасом в Риме собора помещается заглавие, указывающее на то, что текст был послан Дамасом Павлину Антиохийскому (confessio fidei catholicae quam papa Damasus misit ad Paulinum Antiocenum episcopum; в греческой версии также уточняется, что Павлин в это время находился в Фессалонике — ἐν τῇ Μακεδονίᾳ ὃς ἐγένετο ἐν Φεσσαλονίκῃ). Во-вторых, вторая серия анафематизмов завершается во второй версии фразой anathema sit, что более гармонирует с первой серией. В то же время в 23-м ана-фематизме второй версии сохраняется выражение hereticus est, что позволяет рассматривать вторую версию как результат переработки первой. Между вариантами текста отмечены и другие несущественные различия.
В первой серии анафематизмов осуждаются учения Савеллия (анаф. 2), Ария и Евномия (анаф. 3), Фотина и Эвиона (анаф. 5), а также течение македониан, как происходящее от ереси Ария (Macedonianos, qui de Arrii stirpe venientes non perfidiam mutaverunt sed nomen — анаф. 4). Без указания имен ересиархов осуждаются духобор-чество4, учение Аполлинария о том, что во Христе разумная душа (pro hominis anima rationabili et intellegibili) была заменена Божественным Логосом (анаф. 7), учение о двух сынах, т. е. о личностной нетождественности Бога Сына и воплотившегося Христа (анаф. 6) и, судя по всему, идеи Маркелла Анкирского5.
Вторая серия анафематизмов, в сущности, фиксирует положительное богословское учение собора, включающее исповедание единства Лиц Пресвятой Троицы по божеству (divinitatem), могуществу (potentiam), величию (maiestatem), власти (potestatem), славе (gloriam), господству (dominationem) и царству (regnum), а также субстанции (substantiam), воле (voluntatem) и истине (veritatem) (анаф. 20, 24). Подчеркивается обладание Лицами (tres personae) Троицы единым действием и свойствами (анаф. 21 — aequales, semper viventes, omnia continentes visibilia et invisibilia, omnia potentes, omnia iudicantes, omnia vivificantes, omnia facientes, omnia salvantes), Их совечность (анаф. 10) и соучастие в деле творения (анаф. 19). Бог Сын исповедуется рожденным от субстанции Отца (анаф. 11 —Filium natum de Patre, id est de substantia divina ipsius) и равным Ему (анаф. 12 — Patri aequalem), Святой Дух также от нее происходит (анаф. 16 — de divina substantia) и не является творением (анаф. 18). Ему подобает такое же поклонение, как и Отцу и Сыну (анаф. 22). Все три Лица вместе при этом исповедуются единым Богом. Учение о трех богах (Patrem Deum dicens et Deum Filium eius et Deum sanctum Spiritum deos dicere et non propter unam divinitatem et potentiam quam credimus et scimus Patris et Filii et Spiritus sancti, ita dicit Deum) или исповедание только Отца единым Богом провозглашаются недопустимыми: «[Тот, кто,] отделяя Сына или Святого Духа, таким образом считает возможным говорить о единственном Боге Отце или так верует во единого Бога, во всех отношениях является еретиком или даже иудеем» (subtrahens autem Filium aut Spiritum sanctum ita solum aestimet Deum Patrem dici aut ita credit unum Deum: hereticus est in omnibus, immo Iudaeus) (анаф. 24). Бого-воплощение не приводит к отделению Сына от Отца (анаф. 13), при этом страдание на кресте Сын Божий испытывает не как Бог, а как человек, обладающий плотью и душой (анаф. 14). Христос во плоти восседает одесную Отца и во плоти придет судить живых и мертвых (анаф. 15).
В научной литературе нет согласия в вопросе о том, когда именно был создан Tomus Damasi и каково было его предназначение. С Римским собором 382 г. его создание связывают П. Галтье [Galtier, 1936, 385–418, 563–578] и Л. Филд [Field, 2004, 176–188]. Большинство исследователей (Э. Шварц [Schwartz, 1960, 79–82], Э. Каспар [Caspar, 1930, 230], Дж. Досетти [Dossetti, 1967, 108], П.-П. Иоанну [Joannou, 1972, 218–219], Ш. Пиетри [Pietri, 1976, 834–840, 873–880], М. Симонетти [Simonetti, 1975, 432], Р. Гризон [Gryson, 1980, 116–117] приписывают текст Римскому собору 377(8) г., на котором, по сообщению ряда источников, было осуждено учение Аполлинария (Rufinus, Hist. eccl., II.20; Sozom., Hist. eccl., VI. 25; Theodoret., Hist. eccl., V. 10). По мнению Г. Барди, вторая серия анафематизмов была создана ок. 371 г., первая — на Римском соборе 378 г. [Bardy, 1933, 208]. А. де Аллё относит первую серию к середине 70-х гг. IV в., а вторую — к Римскому собору 377(8) г. [Halleux, 1990, 122–123, 161, 184]. Л. Абрамовски полагает, что на Римском соборе до 379 г. было создано не дошедшее до нашего времени дополнение к Никейскому символу, близкое по содержанию к т. н. Никео-Константинопольскому символу. Вводная часть этого сочинения, указывающая на то, что Римский собор добавил к Никейскому символу некий текст, посвященный Святому Духу, сохранилась в составе Tomus Damasi. На Антиохийском соборе 379 г. данная формула была переработана в исповедание 150 отцов, которое впоследствии, вероятно, было утверждено на Константинопольском соборе 381 г. В Риме же, напротив, дополнение к Никейскому символу было заменено на Tomus Damasi ввиду обострения отношений с мелетиана-ми, а также из-за стремления укрепить связи с Павлином Антиохийским, отрицавшим необходимость дополнения Никейского символа [Abramowski, 1992, 481–513]. К. Марк-шис относит вторую серию анафематизмов (10–24) к Римскому собору 378 г., а первую серию (1–9), по его мнению, более позднюю, — к Римскому собору 382 г. На позднюю датировку первой серии указывают упоминание македониан, отсутствующее в текстах 70-х гг. IV в., а также содержание 6-го анафематизма, осуждающего учение о двух сынах, которое, по мнению исследователя, направлено против христологии Диодора Тарсийского [Markschies, 1995, 142–165]. C. Гербер, напротив, считает, что к 379 г. были созданы только 1–8-й анафематизмы, а вторую серию считает позднейшим добавлением [Gerber, 2000, 136–145]. У. Ройттер полагает, что первоначальная редакция текста, включавшая Никейский символ, 1-й анафематизм и комментарии к Никейскому символу (анафематизмы 10–24), была создана на Римском соборе ок. 375 г. Затем она была отправлена Павлину Антиохийскому и упоминается в письме Дамаса к нему. Вторая версия текста с осуждением ересей и переходов епископов с кафедры на кафедру была подготовлена, скорее всего, на Римском соборе 377(8) г. и стала ответом на письмо 263 свт. Василия Великого, настаивавшего на осуждении ересей Евстафия Севастийского, Аполлинария и Маркелла Анкирского. Текст был также послан Павлину. Впоследствии в первую версию текста были включены недостающие фрагменты из второй версии [Reutter, 2009, 404–426].
Несмотря на то, что атрибуция Tomus Damasi Римскому собору 382 г. не пользуется большой популярностью в историографии, на наш взгляд, именно такое решение проблемы происхождения текста наилучшим образом соотносится с его содержанием и историческим контекстом. Римский собор 382 г. был созван императором Грацианом (Hieron., Ep., 108.6; Theodoret., Hist. eccl., V.9) при поддержке римского папы Дамаса и свт. Амвросия Медиоланского (Ambros., Ep. ex. coll., 9(Maur. 13).6.). Это была уже вторая попытка Грациана организовать общецерковный собор епископов Запада и Востока. За год до этого он призвал западных и восточных епископов в Аквилею, однако его восточный соправитель Феодосий I сорвал этот план, проведя в Константинополе сепаратный собор (II Вселенский собор 381 г.). Аквилейский собор прошел без участия восточных епископов и даже Римской Церкви. Римский собор 382 г. был, судя по всему, более представительным6. Однако его общецерковный статус вновь оказался под вопросом из-за проведения Феодосием нового параллельного собора в Константинополе. Константинопольский собор 382 г. направил в Рим делегацию из трех епископов и довольно пространное и учтивое послание, в котором восточные епископы одновременно указывали на вероучительное согласие с западными и на свою самостоятельность в вопросе замещения важнейших кафедр (Theodoret., Hist. eccl., V.9).
В пользу атрибуции Tomus Damasi Римскому собору 382 г. можно привести следующие аргументы:
-
1. На это косвенно указывает Феодорит, поместивший текст Tomus после послания Константинопольского собора 382 г.
-
2. Анафематизмы 1–8 в целом соответствуют перечню ересей в 1-м каноне Константинопольского собора 381 г. Можно отметить также отдельные параллели между текстом Tomus и посланием Константинопольского собора 382 г.7 Как уже было отмечено, делегация из Константинополя участвовала в Римском соборе, и данные соответствия могут рассматриваться как следы ее влияния на соборное богословие.
-
3. 9-й канон, направленный, очевидно, против Мелетия Антиохийского, первоначально рукоположенного на Севастийскую кафедру и занимавшего какое-то время кафедру Берии Сирийской (Socrat., Hist. eccl., II.44; Sozom., Hist. eccl., IV.25, 28; Theodoret., Hist. eccl., II.31), вряд ли мог быть принят до Антиохийского собора 379 г., на котором было восстановлено общение между Римом и восточными никейцами. Скорее его провозглашение можно объяснить нарушением на Константинопольском соборе 381 г. соглашения между Мелетием и Павлином и рукоположением на место Мелетия
-
4. Римский собор 378 г. рассматривается как собор против ереси Аполлинария. В Tomus Damasi данная тема не является центральной, а сам Аполлинарий вообще не упоминается.
-
5. Если Tomus Damasi был издан до 379 г., встает вопрос, почему он не вошел в подборку римских вероучительных формул Exemplum synodi (текст см. в работе: [Reutter, 2009, 249–251]), подтвержденных на Антиохийском соборе 379 г.?
-
6. Римский собор 382 г., при всей его претенциозности, очевидно, должен был издать вероучительный документ. В нашем распоряжении нет иного вероучительного текста, который мог быть приписан данному собору.
Флавиана (Socrat., Hist. eccl., V.5,9; Sozom., Hist. eccl., VII.3,11). Актуальность данному правилу придавал также переход в 379 г. свт. Григория Богослова, рукоположенного ранее во епископа Сасим, в Константинополь8.
Судя по всему, собор объединил в рамках единого документа несколько текстов, что объясняет существование в его рамках двух серий анафематизмов, разрываемых анафематизмом 9. Затем, уже после завершения собора, текст был отредактирован, стандартизирован и разослан его участникам. Этим объясняется то обстоятельство, что вторая версия текста дошла до нашего времени как послание Дамаса к Павлину.
Что касается свидетельств источников, которые теоретически могут быть соотнесены с Tomus Damasi [Reutter, 2009, 408–410, 423–425], то некое исповедание веры, упоминаемое в послании Дамаса к Павлину9, в его же послании к неким восточным адресатам, направленном против сторонника Аполлинария еп. Беритского Тимофея 10, и в одном из посланий свт. Василия Великого11, на наш взгляд, можно отождествить с посланием Римского собора начала 70-х гг. IV в. Confidimus quidem [Захаров, 2016, 7–20]. Свидетельство Феодора Мопсуестийского о постановлениях Римского собора, посвященных учению о Святом Духе, принятых в период гонений (очевидно, речь идет о притеснениях никейцев при императоре Валенте) и одобренных на Востоке (Dossetti, 1967, 107), можно связать с фрагментом Non nobis quidquam, дополняющим никейскую веру (Nicaeni concilii fidem inviolabilem per omnia retinentes) исповеданием единства Святого Духа с Отцом и Сыном (in nullo Spiritum Sanctum separamus, sed perfectum in omnibus, virtute honore maiestate deitate cum Patre conveneramur et Filio) (Reutter, 2009, 251). Данный текст, на наш взгляд, мог быть создан на Римским соборе 378 г., осудившем ересь Аполлинария. Он также был одобрен на Антиохийском соборе 379 г. в составе подборки Exemplum synodi12. С данной подборкой, в свою очередь, может быть связан упомянутый в постановлении Константинопольского собора 382 г. «свиток западных», с которым участники собора выражают свое согласие, наряду с неким вероучительным текстом, принятым на Антиохийском соборе 379 г. (περὶ
τοῦ τόμου τῶν δυτικῶν, καὶ τοὺς ἐν Ἀντιοχείᾳ ἀπεδεξάμεθα)13. Что касается сообщения папы Вигилия о провозглашении на Римском соборе (convenientibus in urbem Romam catholicis episcopis) при участии свт. Амвросия (beatae recordationis Ambrosio Mediolanensis civitatis antistite) неких вероопределений (cum perspectis prodecessoris nostri beatae recordationis Damasi synodalibus constitutis), касающихся учения о Святом Духе (post Nicaenum concilium de Spiritu Sancto tractantibus) (Vigilius, Constitutum II.26. PL. 69. Col. 176), то данное свидетельство может быть отнесено к Римскому собору 382 г., поскольку содержит прямое указание на анаф. 6 Tomus Damasi.
Есть также основания предполагать, что Tomus Damasi был впоследствии утвержден на соборе иллирийского епископата в Сирмии. Против решений этого собора ополчился омийский епископ Палладий Ратиарский, говоривший даже о богохульстве, подтвержденном в Сирмии (talem blasfemiam aput Sirmium confirmandam) и изложенном в формуле, включенной в вероопределение (expositio libello inserta). Палладий приписывает участникам собора приверженность тритеизму14. Несмотря на очевидную несправедливость этого обвинения, которое вступает в противоречие с тезисом Палладия о тождественности учения никейцев модалистской ереси Савеллия (Diss. Max., 99), изложение позиции участников собора напоминает Tomus Damasi, особенно же анаф. 21 (cм. также анаф. 10, 12, 17, 19, 20).
Если наша атрибуция Tomus Damasi Римскому собору 382 г. верна, то встает вопрос о возможном участии одного из самых значимых латинских богословов эпохи — свт. Амвросия — в составлении данного текста. Подобное участие считает вполне вероятным П. Галтье [Galtier, 1936, 563–578]. Его мнению следует и М. М. Казаков, который вообще рассматривает Дамаса лишь как номинального председателя собора, а реальное лидерство приписывает свт. Амвросию [Kazakov, 2010, 100]. К. Маркшис высказывает сомнения по поводу возможности приписать авторство Tomus Damasi Медиоланскому епископу [Markschies, 1995, 162–164]15. На наш взгляд, скептицизм немецкого исследователя следует признать оправданным. Безусловно, и в плане богословского содержания, и в плане терминологии текст в целом демонстрирует сходство с наследием свт. Амвросия. В первую очередь речь идет об акцентированном внимании к проблеме единства власти Пресвятой Троицы, заметном в анаф. 1 и 20. В своих сочинениях «О вере» и «О Святом Духе», являющихся важнейшими памятниками омийско-никейской полемики рубежа 70-х и 80-х гг. IV в., Медиоланский епископ многократно подчеркивает единство власти и господства Пресвятой Троицы (potestas una est Trinitatis; una deitas et Patris et Fili et una dominatio probaretur) (Ambros., De fide. I.8,26. Cp. Ambros., De Spiritu Sancto, I.30,40), которое для него является логическим следствием единосущия Божественных Лиц. Сами слова «Бог» и «Господь» обозначают власть (Deus enim et Dominus nomen magnificentiae, nomen est potestatis). Богом является Тот, Кто господствует над всем, Кто обозревает все и Кого все страшатся (Dominus ergo et Deus, uel quod dominetur omnibus uel quod spectet omnia et timeatur a cunctis) (Ambros., De fide, I.7). В другом месте святитель связывает понятия «Бог» и «Господь» с идеей господства (et qui Deus, Dominus, et qui Dominus, Deus, quia et in dominatione divinitas et in divinitate dominatus est) (Ambros., De Spiritu Sancto, III.107). Однако внимание к теме власти характерно и для другого текста Дамаса — Ea gratia, который относится к середине 70-х гг. IV в. и не может быть приписан влиянию свт. Амвросия. Использование и в текстах свт. Амвросия, и в Tomus Damasi понятия substantia16 для обозначения единства Троицы и persona17 для обозначения Лиц также может рассматриваться как аргумент в пользу авторства свт. Амвросия, однако, на наш взгляд, в данном случае мы имеем дело со своеобразным мейнстримом латинской традиции, восходящей еще к Тертуллиану (Tertull., Adv. Prax., 12), несмотря на эксперименты с терминологией в более ранних текстах Дамаса18. Участие свт. Амвросия в составлении Tomus Damasi, таким образом, следует признать возможным, но недоказанным.
Если попытаться оценить в целом вклад Tomus Damasi в развитие богословской мысли, то стоит отметить, что учение о единстве Троицы оказывается выражено в данном памятнике намного более внятно, чем учение о различии Лиц. В тексте прямо отвергается представление об Отце как о едином Боге. Понятие «единый Бог» соотносится со всей Пресвятой Троицей (анаф. 24). В отличие от сочинений свт. Амв-росия19, в данном памятнике не обозначены определенно свойства Божественных Лиц и они не отделяются от свойств сущности. Отсутствует в Tomus Damasi и ясное учение о монархии Бога Отца как основании единства Троицы, что, впрочем, характерно и для свт. Амвросия [Фокин, 2014, 343].
Отсутствие баланса между двумя сторонами тринитарного парадокса в наследии свт. Дамаса дало повод М. Винценту рассматривать его как сторонника мо-нархианства, традиционного, по мнению ученого, для Римской Церкви [Vinzent, 2013, 273–286]. Исследователь усматривает истоки римского монархианства в богословских спорах рубежа II и III вв., когда обвинение в приверженности патрипас-сианским воззрениям было выдвинуто против пап Зефирина и Каллиста. В период арианских споров промонархианский уклон римской традиции укрепился благодаря влиянию миаипостасной доктрины Маркелла Анкирского, поддержанной римскими епископами. На наш взгляд, богословское содержание Tomus Damasi входит в существенное противоречие с обозначенными выше тезисами М. Винцента. Во-первых, как уже было показано, в данном тексте отвержение субординационизма в арианском и евномианском вариантах уравновешивается осуждением различных толков мо-нархианства. Имя Маркелла не называется, но, как уже отмечалось, приписываемые ему тезисы осуждаются. При этом отвергается представление о несамостоятельности бытия (insubstantivum / ἀνυπόστατον) Бога Сына (анаф. 8). Во-вторых, в тексте отсутствуют следы миаипостасной доктрины. Его составители мыслят в латинских, а не в греческих категориях. Они не осуждают принятое в среде восточных епископов различение понятий οὐσία и ὑπόστασις, но не устанавливают жесткие нормы перевода ὑπόστασις на латинский язык.
Являя собой опыт фиксации соборного консенсуса в форме анафематизмов, Tomus Damasi не был призван сформулировать цельную и последовательную богословскую концепцию, а скорее обозначить границы ортодоксии. С богословской точки зрения составители текста не достигли той же степени парадоксальной ясности в раскрытии тринитарного учения, которую мы находим, например, у свт. Григория Богослова, фактически основывающего единство Троицы на уникальных свойствах Ипостасей, а именно на рождении Сына и исхождении Святого Духа от Отца и Их «возвращении» к Своей Первопричине (Greg. Theol., Or., 29.2). Tomus Damasi являет нам более простое видение Троического единства, основанное на единстве Божества и власти. Не восприняв в полной мере каппадокийскую трактовку Никейской веры, Римский собор в то же время и не отверг ее, сохранив приверженность латинским богословским категориям.
Список литературы Tomus damasi: исторический контекст и богословское содержание
- Ambrosius Mediolanensis. Epistulae extra collectionem // Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений. М., 2015. Т. IV (2). С. 317-499.
- Ambrosius Mediolanensis. De fide // Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений. М., 2015. Т. V. С. 19-419.
- Ambrosius Mediolanensis. De Spiritu Sancto // Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений. М., 2016. Т. VI. С. 17-281.
- Ambrosius Mediolanensis. Deincarnationis Dominicae sacramento // Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений. М.,2015. Т. V. С. 421-501.
- Athanasius Alexandrinus. Orationes adversus Arianos // PG 26.P., 1857. Col. 11-526.
- Basilius Cesariensis Cappadociae (Magnus). Epistulae // PG 32. P., 1857. Col.219-1112.
- Grégoire de Nazianze. Discours 27-31 (SC. 250). P., 2008.
- Hieronymus. Epistulae // PL 30. P., 1846. Col. 13-308.
- Rufinus. De adulteratione librorum Origenis // PG 17. P., 1857. Col. 615-632.
- Rufinus. Historia ecclesiastica // PL. 21. P., 1849. Col. 461-540.
- [Dissertatio Maximini contra Ambrosium] Scolies ariennes sur le conciled'Aquilée (SC. 267) / Éd. R. Gryson. Р., 1980.
- Socrates. Historia ecclesiastica // PG. 67. P., 1864. Сol. 29-842.
- Sozomenus. Histоria ecclesiastica // PG. 67. P., 1864. Col. 843-1630.
- Tertullianus. Adversus Praxean // PL. 2. P., 1844. Col. 153-196.
- Teodoretus. Historia ecclesiastica // PG. 82. P., 1864. Col. 881-1280.
- Vigilius, papa. Constitutum pro damnatione trium capitulorum //PL. 69. P., 1865. Col. 143-178.
- Захаров Г. Е. Послание Римского собора Confidimus quidem в контексте взаимоотношений Церквей Запада и Востока в 70-е гг. IV в. // Вестник ПСТГУ. Серия II.2016. Вып. 4 (71). С. 7-20.
- Петр (Л’Юилье), архиеп. Правила первых четырех Вселенских Соборов. М., 2005.
- Фокин А. Р. Формирование тринитарной доктрины в латинской патристике. М., 2014.
- Abramowski L. Was hat das Nicaeno-Constantinopolitanum mit demKonzil Konstantinopel zu tun? // Teologie und Philosophie. 1992. Bd. 67. S. 481-513.
- Bardy G. Le concile d'Antioche (379) // Revue Bénédictine. 1933. Vol. 45.P. 196-213.
- Caspar E. Geschichte des Papstums von den Anfängen bis zur Höhe derWeltherrschaf. Bd. I. Tübingen, 1930.
- Dosseti G. Il simbolo di Nicea e di Constantinopoli: edizione critica. Roma,1967.
- Field L. L. On the Communion of Damasus and Meletius: Fourth-CenturySynodal Formulae in the Codex Veronensis LX (with critical edition and translation). Toronto,2004.
- Galtier P. Le "Tome de Damase". Date et origine // Recherches de sciencereligieuse. 1936. Vol. 26. P. 385-418; 563-578.
- Gerber S. Teodor von Mopsuestia und das Nicanum: Studien zu denkatechetischen Homilien. Leiden, 2000.
- Halleux A., de. "Hypostase" et "personne" dans la formation du dogmetrinitaire (ca 375-381) // Idem. Patrologie et Oecuménisme. Leuven, 1990. P. 113-214.
- Joannou P.-P. Die Ostkirche und die Cathedra Petri im 4. Jahrhundert.Stutgart, 1972.
- Kazakov M. M. Leters of Western Bishops to the Emperor Theodosius Iand Relations between Eastern and Western Churches at the End of the Fourth Century // Studia Patristica. Leuven; P.; Walpole (MA), 2010. Vol. XLIV. P. 91-104.
- Markschies Ch. Ambrosius von Mailand und die Trinitäts theologie:Kirchen- und theologiegeschichtliche. Studien zu Antiarianismus und Neunizänismus beiAmbrosius und im lateinischen Westen (364-381 n. Chr.). Tübingen, 1995.
- Markschies Ch. Was ist lateinischer "Neunizänismus"? Ein Vorschlagfür eine Antwort // Markschies Ch. Alta Trinità beata. Gesammelte Studien zur altkirchlichen Trinitätstheologie. Tübingen, 2000. S. 238-264.
- Pietri Ch. Roma Christiana. Recherches sur l’Eglise de Rome, son organisation,sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (311-440). Rome, 1976.
- Reuter U. Damasus, Bischof von Rom (366-384). Leben und Werk.Tübingen, 2009.
- Riedinger R. Der Tomus des Papstes Damasus (CPL 1633) im Codex Paris. gr 1115 // Byzantion. 1984. Vol. 54. P. 634-637.
- Schwartz E. Zur Kirchengeschichte des vierten Jahrhunderts//Schwartz E. Gesammelte Schrifen 4: Zur Geschichte der alten Kirche und ihres Rechts. B., 1960.S. 1-110.
- Simoneti M. La crisi ariana nel IV secolo. Roma, 1975.
- Staats R. Die romische Tradition im Symbol von 381 (NC) und seineEntstehung auf der Synode von Antiochien 379 // Vigiliae Christianae. 1990. Vol. 44. P. 209-221.
- Vinzent M. From Zephyrinus to Damasus - What did Roman Bishopsbelieve? // Studia Patristica. Leuven; P.; Walpole, 2013. Vol. LXIII. P. 273-286.