Топ-модель выживания
Автор: Кондратьев Владимир
Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii
Статья в выпуске: 2 (82), 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142169031
IDR: 142169031
Текст статьи Топ-модель выживания
От борьбы с огнем к экономическим стимулам Длительность выхода экономики из кризиса зависит не только от государственного стимулирования, но и от активности самих компаний. Практика показывает, что обычно необходимо около двух лет для выхода из рецессии и почти в два раза больше времени для возвращения на траекторию устойчивого экономического роста. Есть только два примера в истории мировой экономики, когда рецессия длилась существенно дольше: это «потерянное десятилетие» Японии в 1990-х годах и Великая депрессия, начавшаяся в США в 1929 году и закончившаяся в 1940-х. Тогда у государств было гораздо меньше средств для координации антикризисных усилий, чем теперь.
Финансовый кризис превращается в экономическую катастрофу только в том случае, если блокирует процесс предоставления капитала бизнесу в течение достаточно длительного времени, что вызывает широкую волну корпоративных банкротств.
Сегодня, по оценкам специалистов, глобальный нефинансовый сектор вступает в рецессию значительно лучше подготовленным, чем прежде: промышленные компании имеют более низкий левередж (использование заемных средств — ред.) и более высокое кредитное покрытие по сравнению с кризисами 1998 года, начала 2000-х годов и даже периода нефтяных шоков 70-х.
Исследования показывают, что в периоды рецессий компании, исповедовавшие чисто защитную стратегию, оказывались менее успешными, чем их более активные конкуренты. По мере усиления экономического спада предприятия должны быть готовыми использовать представившиеся возможности.
Хотя кризисные ситуации обычно и отличаются друг от друга по своему характеру, полезно проанализировать, какие процессы происходили в той или иной отрасли экономики в подобные периоды и от каких факторов зависела скорость выхода из кризиса.
Локомотивы будущего роста Даже в условиях Великой депрессии не во всех отраслях происходило сокращение производства. В США, например, наблю
Кризис – свидетельство того, что предпринимательская модель компании устарела, структура отрасли изменилась кардинальным образом и, следовательно, старые методы ведения бизнеса уже не работают.
Топ-модель
дался глубокий сдвиг от инвестиционных товаров к потребительским. В наибольшей степени пострадали металлургия, химия, угольная промышленность, производство строительных материалов; но одновременно появлялись новые бренды в пищевой промышленности (компания Kellog, например). Кемпинги и мотели вырастали вдоль шоссейных дорог, а авиаперевозки испытывали настоящий бум. То же самое происходило и в индустрии развлечений, что потом было названо золотым веком Голливуда.
Схожим образом в Японии в период относительно низкой покупательной активности потребителей в 1995—2005 годах в стране существовало более 200 брендов прохладительных напитков, причем 70% из них ежегодно заменяли другими. Сейчас уже очевидно, что такие области экономики, как ядерная энергетика, инфраструктура и оп тико-волоконная связь могут стать драйверами будущего подьема.
В металлургической отрасли, несмотря на достаточно глубокое сокращение производства, спрос к 2025 году составит, по прогнозам экспертов, 2 млрд. т ежегодно.
В 1990-е годы показатель интенсивности спроса на сталь (обьемы стали, необходимые для создания одного доллара Валового национального продукта — ВНП) в достигшей зрелости автомобильной промышленности и инфраструктуре Западной Европы и Северной Америки снизился. С начала нынешнего века инфраструктурные и строительные проекты, связанные с процессом урбанизации в Китае, Индии, на Среднем Востоке, обеспечили 35% совокупного спроса на сталь и более 50% роста глобальной металлургии. Спрос на другие металлы (алюминий, медь и др.) также превышал темпы роста ВНП этого региона.
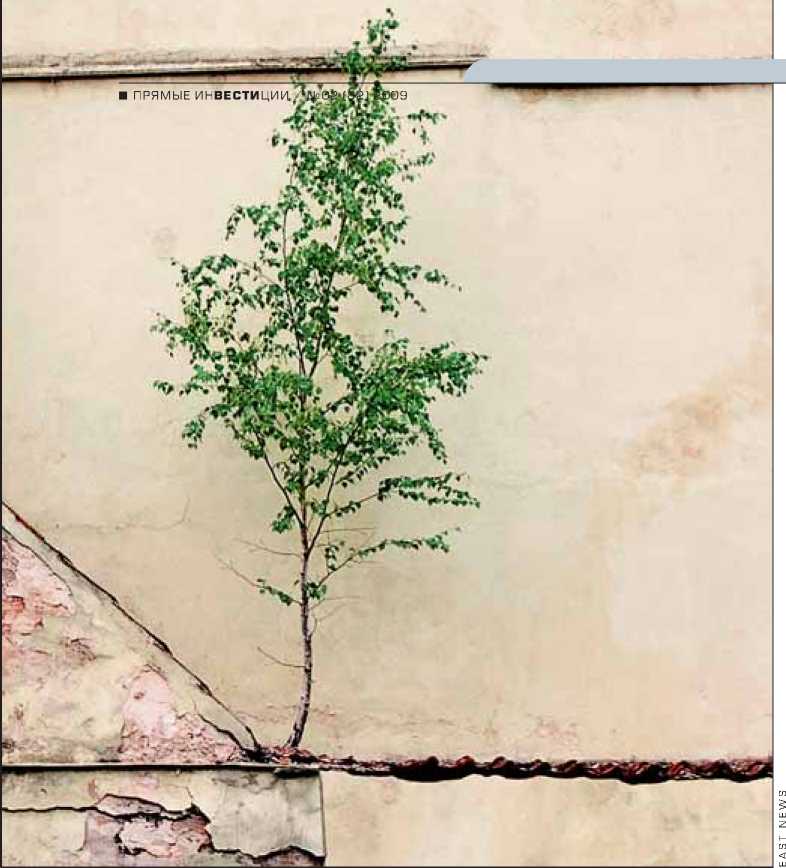
выживания
шинство компаний пересматривают свои IT-бюджеты, пытаясь сократить совокупные корпоративные расходы, многие стремятся сохранить приоритетные инвестиции.
Рецессии по-разному влияют на расходы населения, потребительские товары и услуги. Например, в 1990—1991 и 2000—2001 годах в целом потребительские расходы американцев не сокращались, изменялись их предпочтения. Население уменьшало затраты на питание вне дома, товары личной гигиены, транспорт и одежду, увеличивая в то же время расходы на образование, личное страхование и здравоохранение. В нынешнюю рецессию эти соотношения могут быть другими. Однако общая тенденция изменения направленности расходов сохранится.
По оценкам экспертов, предыдущие рецессии не привели к глубокой реструктуризации химической промышленности. Сегодня сокращение спроса, скорее всего, будет способствовать созданию новых низко затратных мощностей в Китае и странах Среднего Востока, которые быстро заменят высоко затратные производства в Европе, Японии, Северной Корее и США.
Обычно во время рецессий приостанавливают наукоемкие инновационные проекты. Однако практика Великой депрессии свидетельствует о том, что некоторые компании придерживаются обратной стратегии. Одной из таких была DuPont. В апреле 1930 года ведущий исследователь корпорации Уоллес Каротерс сообщил об изобретении им неопрена (разновидность синтетического каучука). Хотя к этому времени акции и продажи компании упали примерно на 10 и 15% соответственно, DuPont резко увеличила расходы на НИОКР для коммерциализации новой технологии. В результате неопрен,
В ближайшие годы эти же страны обеспечат рост глобальной металлургии.
Во время рецессий затраты на высокие технологии обычно падают быстрее, чем сам ВНП. Исследование компании McKinsey 50 стран за 13 лет свидетельствует, что инвестиции в сферу IT-технологий обычно снижаются в пять — семь раз быстрее, чем ВНП. При этом наиболее интенсивно (в 8—9 раз) — в производстве оборудования и наименее интенсивно (в три — пять раз) — в сфере программного обеспечения. Сокращение производства в этом секторе в 2001 году было более значительным, поскольку расходы на компьютерное и телекоммуникационное оборудование в процентах к ВНП (IT-интенсивность) достигли к этому времени своего исторического максимума.
Во время нынешней рецессии показатель IT-итенсивности близок к своему историческому тренду. В то время как боль-
Руководство по выживанию
Компания McKinsey разработала для компаний руководство по выживанию в условиях кризиса.
— Если компания не может выжить, она должна продать свой бизнес — позже это будет невозможно.
— Необходимо сохранить ядро бизнеса за счет периферии; в случае улучшения ситуации можно снова приобрести периферию, если она того стоит.
— Любой стабильный источник прибыли, любое конкурентное преимущество требует накладных и административных расходов, перекрестного субсидирования; такие издержки можно себе позволить в благоприятных условиях, в условиях кризиса компания должна сокращать их.
— Компания должна концентрироваться на усилении своих конкурентных преимуществ: скупать по дешевке эффективные активы оказавшихся в затруднительном положении конкурентов с прибылью для себя и снижать издержки для поддержания бизнеса компании.
— Необходимо сосредоточиться на персонале и социальной ответственности: хорошие отношения с работниками, которых компания сохраняет и которым помогает, окупятся многократно с началом восстановления экономики.
Источник: Strategy in a «structural break», McKinsey Quarterly, December 2008.
который начали широко применять в 1937 году, стал одним из главных нововведений XX века. К 1939 году каждый произведенный в США автомобиль или самолет имел неопреновые компоненты. В 1934 году DuPont изобрела нейлон и коммерциализировала его к 1938-му — в результате интенсивных затрат на НИОКР и разработку продукта.
DuPont не единственный пример. Многие известные сегодня высокотехнологичные компании, такие как Hewlett-Packard и Polaroid, возникли как предпринимательские стартапы (от англ. start up —запускать — ред.) в 1930-е годы.
Разумеется, эти примеры не означают, что активные инвестиции в инновации были панацеей для всех предприятий в период Великой депрессии. Не являются они универсальным средством и сейчас. Однако в целом опыт тех лет подтверждает, что хотя приостановка проектов — естественная реакция на неопределенность, некоторые компании должны продолжать инновационную деятельность даже в экстраординарных условиях экономического спада. Особенно в области технологий, которые требуют длительных сроков коммерциализации изобретения. Компании, приостанавливающие такие инвестиции, могут упустить существенные возможности для роста после выхода экономики из кризиса.
Крупным компаниям — крупные увольнения
Фактор, снижающий эффективность компании, — сложность ее предпринимательской и управленческой систем. Если требуется ежегодно расходовать $300 тыс. в виде зарплаты, бонусов на одного, пусть и квалифицированного, сотрудника, это может оказаться неподъемным в период кризиса.
Простое сокращение издержек оказывается недостаточным. Действовать следует на двух уровнях: упрощать корпоративную структуру и трансформировать предпринимательскую модель. Крупные подразделения разбивают на мелкие, чтобы предотвратить перекрестное субсидирование и упростить принятие решений.
В наибольшей степени пострадают от кризиса предпринимательские модели, ориентированные на высокий левередж, потребительские кредиты, операции по масштабному финансированию потребителей или высокий уровень оборотного капитала. Компании с длительным или негибким производственным циклом, а также требующие долгосрочных инвестиций, окажутся в особо сложных условиях. Это неизбежно вызовет реструктуризацию отраслей. Лидеры зарубежного корпоративного сектора уже осознали это.
Во время опроса руководителей транснациональных корпораций, проведенного компанией McKinsey в ноябре 2008 года, 54% респондентов заявили, что ожидают усиления процесса консолидации в своих отраслях.
При этом компании разрабатывают сразу несколько взаимосвязанных стратегических планов, охватывающих все функции и географические ареалы их деятельности. Они анализируют, какое слияние будет привлекательным, на каких условиях и какие объемы финансового и управленческого капитала понадобятся, какие новые продукты соответствуют тому или иному сценарию развития и на каких рынках следует искать собственные ниши.
Три четверти компаний уже осуществляют сокращение производственных издержек, 44% — принимают меры по повышению производительности и 37% — сокращают инвестиционные расходы. Более того, 34% опрошенных заявили, что внедряют новые товары или услуги, чтобы занять рыночные ниши своих конкурентов.
В целом предприятия пока не приступили к массовому сокращению работников. Около 50% респондентов заявило, что чис-
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / №02 (82) 2009 ■ ленность персонала сохраняется стабильной, 35% отмечают сокращение занятости. (Интересно, что на развивающихся рынках Китая и Индии ожидается рост трудовых издержек.) Крупные публичные компании сокращают персонал более интенсивно, чем мелкие и средние фирмы.
Интересна оценка бизнесменов возможных (и должных) мер государственного воздействия для выхода из кризиса. Подавляющее большинство (59%) полагает, что государство должно инвестировать в инфраструктуру и другие проекты для поддержания экономической активности. При этом на развивающихся рынках эта доля возрастает до 70% (в Европе — 52%). Создание условий для инвестирования компаний внутри страны ожидает 42% респондентов (55% на развивающихся рынках), координации изменений процентных ставок — 41% (38%), налоговых послаблений и других мер финансовой поддержки компаний — 33%, налоговых послаблений и другой финансовой поддержки потребителей — 30%.
Новое партнерство бизнеса и государства
Глобальная конкурентоспособность ассоциируется прежде всего с деятельностью крупных, как правило, транснациональных корпораций. В России же даже ведущие компании, несмотря на их видимый рост последних лет, все еще значительно отстают не только от западных корпораций, но и от некоторых компаний развивающихся стран.
Например, у крупнейшей российской нефтедобывающей компании «ЛУКОЙЛ» объемы продаж в 7 раз меньше, чем у ExxonMobil и в 1,5 раза — чем у ведущей бразильской нефтяной корпорации Petrobras. Российская металлургическая компания «Северсталь» отстает от ArcelorMittal из Люксембурга в 8 раз, и от бразильской Gerdau — в 1,7 раза. В химической промышленности
Ядерная энергетика, инфраструктура и оптико-волоконная связь могут стать драйверами будущего роста
При одинаковых объемах продаж в Газпроме занято 300 тыс. человек, а в норвежской Statoil Hydro – 30 тыс.
EAST NEWS


РИА-НОВОСТИ
■ ПРЯМЫЕ ИН ВЕСТИ ЦИИ / №02 (82) 2009
германская BASF опережает российский «Уралкалий» в 100 раз, а саудовская Saudi Basic Industries — в 27 раз (расчеты автора по данным корпоративной статистики).
Выход из кризиса невозможен без радикального сокращения издержек и повышения производительности труда. Данные статистики свидетельствуют, что при одинаковых объемах продаж в российском Газпроме занято 300 тыс. человек, а в норвежской Statoil Hydro — 30 тыс. ЛУКОЙЛ (при меньшем объеме продаж) имеет в 4 раза меньшую выработку на одного занятого, чем государственная бразильская нефтедобывающая компания Petrobras (в российской компании работает 150 тыс. человек, а в бразильской — 68 тысяч).
Российские компании на протяжении длительного времени приобретали за рубежом, как правило, низкоэффективные активы. Так у ЛУКОЙЛа коэффициент эффективности всего 0,6, в то время как у малайзийской Petronas — 6,4, у индийской Oil and Natural Gas Corp. — 1,3. У «Норильского Никеля» эффективность приобретенных зарубежных активов составляет 0,8, а у бразильской также добывающей корпорации Companhia Vale de Rio Doce — 1,9. У российской машиностроительной компании «ОМЗ» и металлургической «Мечел» этот показатель вообще запредельно низкий, стремящийся к нулю.
«Северсталь» недавно приобрела ряд заводов в США (Esmark за $1,24 млрд. и WCI Steel за $140 млн.). По данным журнала «Эксперт», с приобретением таких активов доля зарубежной составляющей компании достигнет 60%. Однако эти заводы отличаются огромными долгами и почти полным отсутствием прибыли. Это означает, что прибыльные российские предприятия фактически дотируют убыточные американские компании, поддерживая на плаву весь холдинг в целом. Аналогичная ситуация и с другими российскими корпорациями, приобретающими за рубежом сомнительные с точки зрения эффективности производства. Очевидно, настало время избавляться от таких активов. Например, американские автомобильные компании уже этим занимаются: GM в ноябре продала принадлежавшие ей акции Suzuki, а Ford — 20% пакет акций компании Mazda. Рассматривается вариант слияния General Motors и Chisler, в результате чего, по некоторым оценкам, будет сокращено примерно 25—35 тыс. рабочих мест.
Первые российские шаги в этом направлении уже сделаны. Так «Норильский Никель» объявил, как будет снижать издержки. В основном это коснется иностранных активов: инвестиционная программа по ним в 2009 году урезана на 48%, до $240 млн. Компания сократит 1500 сотрудников иностранных «дочек». Штат центрального аппарата «Норникеля» уменьшится на 16%. РЖД также сообщила о постепенном сокращении 39 тыс. человек (3% сотрудников), в первую очередь управленческих кадров.
Из четырех видов стратегии зарубежной экспансии: natural resources seeking (поиск природных ресурсов), efficiency seeking (повышение производительности), strategic asset seeking (поиск стратегических акти- вов), market seeking (поиск новых рынков) — российские компании предпочитают последний, обеспечивающий долгосрочный спрос на продукцию. Той же стратегии придерживаются Кувейт и Саудовская Аравия.
Стратегии strategic asset seeking (приобретение стратегических активов в форме ноу-хау или ускоренное приобретение глобального статуса) российские компании, как правило, не придерживаются. Она характерна для новых ТНК развивающихся стран (Китай, Индия, Бразилия), стремящихся максимально быстро нарастить свои конкурентные активы.
Необходимо новое партнерство бизнеса и государства. В ответ на государственную поддержку компании обязаны предоставлять четкие планы реструктуризации, снижения издержек и повышения эффективности, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, включая сокращение бонусов, премий топ-менеджменту вплоть до ротации управленческого персонала проблемных компаний (как это делают сейчас за рубежом).
До кризиса отечественная официальная статистика утверждала, что наши компании развиваются преимущественно за счет внутренних источников, а доля привлеченных средств незначительна (не более 10—15%). Во время же кризиса выяснилось, что средства на инвестиционные проекты, слияния и поглощения брали в кредит, причем в зарубежных банках, в залог крупных пакетов акций (теперь государство стремится не допустить утечки этих бумаг за рубеж).
Фактически предприятия сделали государство заложником своей инвестиционной политики. Теперь они, по-видимому, должны ответить на вопрос, куда же направлялась при этом прибыль компаний?
Бизнес-стратегию нужно изменять: повышать квалификацию персонала, качество продукции, интенсифицировать связи с общественностью, улучшать общественный имидж. Л
«Северсталь» приобрела ряд заводов в США, имеющих огромную долговую нагрузку
Российские компании, в отличие от китайских, не приобретали стратегических активов в форме ноу-хау
ИТАР-ТАСС


РИА-НОВОСТИ


