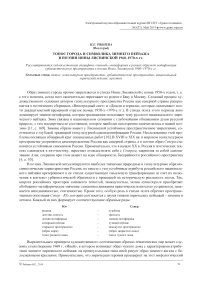Топос города и символика зимнего пейзажа в поэзии Инны Лиснянской 1960-1970-х гг
Автор: Рябцева Наталья Евгеньевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 5 (32), 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается художественная специфика «зимней» метафорики в рамках образной модификации урбанистического пространства в поэзии Инны Лиснянской 1960-1970-х гг.
Топос, геокультурное пространство, урбанистическое пространство, национальный лирический пейзаж, архетип
Короткий адрес: https://sciup.org/14822138
IDR: 14822138
Текст научной статьи Топос города и символика зимнего пейзажа в поэзии Инны Лиснянской 1960-1970-х гг
Юг Север родина – чужбина детство, юность – зрелость летняя метафорика – зимняя метафорика солярный пейзаж – лунный пейзаж открытое пространство – замкнутое пространство
(образ моря) – (образ закрытого окна)
топос родного дома – топос чужого дома
Выразительным примером художественного соотношения образно-тематических пар может служить стихотворение 1969 г. «Иней», в котором возникает образ чужого дома с характерными атрибутами зимнего лирического пейзажа: на прямоугольнике окна иней рисует образ зимнего ангела с белоснежными крыльями. Примечательно, что лирическая героиня проецирует на этот мифологический персонаж собственное эмоциональное восприятие чужого для нее пространства Города: Чужого ангела я глажу / По белоснежному крылу [6, с. 23]. Мотив одиночества и образ чужого Дома в итоге получают дополнительный смысловой импульс: поэт разлучен со своим истинным ангелом-хранителем, оставшимся за пределами северного города – на теплом южном взморье. Неподвижности как лейтмотиву стихотворения (замкнутость в тесных пространственных границах Дома и Города) противопоставляется мотив «окна памяти», сквозь заснеженное стекло которого поэт созерцает милые сердцу образы из детства: теплый бакинский Дом, увитый виноградной лозой, и морской берег, где светит солнце внутри лилового пятна:
Откуда знает ангел зимний,
Какая участь мне дана?
Что из того, что без ответа
Любила свой бакинский дом
И теплый камень парапета,
Где ивы морю бьют челом.
Но что теперь переиначу?
И хоть в окошке – два крыла,
Не перебраться, как на дачу,
В ту жизнь, которая прошла [Там же]
Бережно сохраненный в душе поэта виноградный свет памяти о детстве чудном создает особый эмоциональный фон стихов конца 1950–1970-х гг. Сквозь призму этого биографического мифа о южном рае лирическая героиня Лиснянской воспринимает реальность настоящего, обнаруживая тем самым резкую дисгармонию между пространством города и идеалом детской мечты. В сборнике «Виноградный свет», включающем произведения 1960-х – начала 1970-х гг., эти два мира – реальный и идеальный – еще сосуществуют. В сборнике «Дожди и зеркала» (1975–1979 гг.) в центре внимания оказывается уже страшный мир города, а отсутствие южной символики лишь подчеркивает катастрофичность обступающей поэта абсурдной реальности. При этом важно отметить, что зимние образы и мотивы, прочно связанные у Лиснянской с урбанистическим пространством, вводятся в художественный текст через историко-литературные параллели. Творческое переосмысление поэтической традиции зимнего пейзажа – достаточно распространенное явление в русской поэзии 1960–1970-х гг.. Однако уже в самой причастности поэтов определенной традиции можно обнаружить важные закономерности, позволяющие составить более полное представление о художественном мировоззрении автора. В поэзии Лиснянской образы зимней символики наделяются устойчивой отрицательной семантикой, становятся воплощением стихийного начала в природе и истории. Интересно в этом плане сопоставить поэзию Лиснянской 1960–1970-х гг. с лирикой Б. Ахмадулиной и Ю. Мориц этого же периода.
В творчестве Б. Ахмадулиной и Ю. Мориц зимняя тематика занимает одно из центральных мест, но, в отличие от поэзии Лиснянской, она окрашена в положительную смысловую тональность. Так, для Б. Ахмадулиной, по замечанию критиков, особенно характерно молитвенное отношение к снегу ( благодать уже сыплется ), к зиме героиня испытывает стыд перед ее абсолютной белизной, чистотой, совершенством. У Ю. Мориц, отмечает исследователь, зимние образы призваны передать ощущение тайны, пронизывающей все бытие природы [11, с. 271–272]. Образы мороза и снега символизируют в стихах Мориц не умирание, а очищение, обновление природы и человека – таинство, свершающееся между небом, землей и человеком в тот миг, когда так спокойно в природе и складно [7, с. 114]. В стихотворении «Мускат в бокале розов…» дом и сад, покрытые снежной россыпью, становятся частью зимнего сказочного пространства, идиллического микрокосма, в центре которого – дом, согретый человеческим теплом и уютом:
Мускат в бокале розов,
Как пальцы на свету,
И благодать морозов
Наводит чистоту
В пространстве, где жилища
Дымятся на земле,
Как сваренная пища
Дымится на столе.
-
(1974) [Там же, с. 85]
В стихах Ахмадулиной гармонично существует маленький юг среди бурь сиротливых , моря неизбежно манят и дарят детское зренье провидца [1, с. 64–65], в то время как у Лиснянской образы зимней и летней символики, включенные в общую модель лирического пространства, соотносятся друг с другом по принципу резкого контраста. Наиболее же существенное различие заключается в интерпретации поэтами замкнутой модели пространства. Топос замкнутого пространства у Ахмадулиной, как правило, реализует положительные смысловые коннотации. Яркий пример тому – стихотворение «Зимняя замкнутость» (1965), посвященное Б. Окуджаве. Лейтмотивом стихотворения становится тема дома и творческого уединения: Снег занес мою крышу еще в январе, / предоставив мне замкнутость дум и деяний. / Я жила взаперти, как огонь в фонаре / или как насекомое, что в янтаре / уместилось в простор тесноты идеальной [1, с. 63]. Зимняя символика тесно сопряжена у Мориц и Ахмадулиной с новогодней и рождественской тематикой. Зимний город превращается у них в мир волшебной сказки, в чудесное пространство, в котором, как пишет Ахмадулина, можно только любить, только ель наряжать и созерцать этот мир несказанный («Какое блаженство, что блещут снега…») [Там же, с. 141].
Иной характер восприятия зимнего пейзажа находим в стихах «зимнего цикла» Лиснянской. Зимняя метафорика воплощает у нее безликую силу стихии, враждебной человеку, предвещающей беду и смерть. Природа подобного трагического мировосприятия, на наш взгляд, связана не только с биографическим компонентом образности или императивом времени, но и с влиянием литературной традиции. Пространство зимнего города включается поэтом в историко-культурный ландшафт, оценивается как реальность культуры. Ее пространство выполняет в данном случае функцию сохранения, аккумулируя системы устойчивых культурных значений объектов географического пространства. В ландшафте, воспроизводимом в художественной литературе, «одновременно содержатся как современные, так и исторические пространственные образы, символы и стереотипы»; он выполняет роль пространственной памяти», несет в себе узор пространственных связей, смыслов [4: 21]. В этом контексте пространственная оппозиция Юг – Север / Родина – Чужбина получает особый смысл и прочитывается сквозь культурный код эпохи. Поэт приходит к осознанию связи собственной судьбы с трагической судьбой северной России, смиренно и жертвенно отдает свою жизнь в залог российской метелице :
Я с ужасом твержу: смирись,
Моя душа – заложница,
Уж коли так сложилась жизнь,
Иначе и не сложится!
Есть только право умереть,
А умереть успеется.
Свистит над головою плеть –
Российская метелица…
-
(1973) [6, с. 64–65]
Образная система стихотворения «Заложница» (мотив зимы-смерти, города-тюрьмы, семантика могилы, погребения) вводит читателя в смысловое поле традиции русской поэзии, намечает параллели с традицией восприятия исторической стихии, укорененной в русской семантической поэтике А. Ахматовой и О. Мандельштама. При этом ахматовский пласт традиции в воспроизведении зимней метафорики оказывается особенно значимым вследствие географического сближения творческих судеб двух поэтов. Известно, что детство и юность Ахматовой были связаны с южной природой, с морской стихией. Самым сильным впечатлением детских лет, проведенных под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, оставался для Ахматовой древний Херсонес. «…Я последняя херсонидка, – писала она в одном из писем, – т. е. росла у стен древнего Херсонеса (т.е. с 7 до 13 лет проводила там каждое лето). <…> Там меня называли “дикая девочка” и считали чем-то средним между русалкой и щукой за необычное умение нырять и плавать. В моем детстве и ранней юности было много моря» [2, с. 474– 475]. Эта биографическая подробность, ставшая источником многих лирических сюжетов ахматовского творчества, проецируется в сознании Лиснянской – рожденной синей бездной – на собственную линию жизни, что нередко отражается в ее стихах в намеренном пространственном сближении «южного» топоса детства с морским топосом ахматовской поэзии, при этом морская сказочная тематика Юга сталкивается с северной образностью как знаком исторического времени:
Там цвели вдоль моря олеандры,
Розовая тень ушла в песок,
Ударяли голосом Кассандры
Волны в парапет наискосок.
Не она ли грозно прорицала,
Что взойдет кровавая звезда
И на север тронутся с вокзала
Зарешеченные поезда…
-
(1974) [6, с. 79]
Биографические истоки мотива заложницы в итоге определяют более глубинное – эстетическое и мировоззренческое – родство двух художественных систем. Поэт у Лиснянской осознает себя хранителем единой культурной традиции, противостоящей хаосу исторических бурь и метелей :
Я в русский снег и в русский слог
Вросла – и нету выхода, –
Сама я отдалась в залог
И душно замятью ночной
Мне под звездой казенною,
И вьется мирный дым печной,
Как будто над газовнею. [Там же, с. 65]
Звуковая и семантическая смежность лексем, сопровождающаяся лексическим повтором ( русский с не г – русский с ло г ), акцентирует идею коренного родства природы и поэзии, взращенных на единой почве русской культуры. Характерен в этой связи выбор стихотворного размера. Поэт обращается к 4-стопному ямбу – самому расхожему, нейтральному размеру стиха, который в ХХ в. ассоциируется с чем-то классическим [3, с. 66]. Необходимо отметить, что в стихах Инны Лиснянской этого периода классическая стихотворная форма несет особую смысловую нагрузку, становится определенным знаком культурной памяти, преодолевающей стихийность эпохи, чьи мысли кривые душу живу протерли до дыр . Е. Эткинд заметил, что в сборниках Лиснянской 1960–1970-х гг. гармонизирующая красота поэтической формы преодолевает несущий уродство смерти хаос [12, с. 63]. Отсюда столь частое обращение автора к маркированным стихотворным размерам, которые способствуют активизации памяти метра, являющейся, наряду с памятью жанра, составной частицей памяти культуры [3, с. 16]. Одним из наиболее частотных стихотворных размеров становится для Лиснянской 4-стопный ямб, семантический ореол которого прочно связан в русской поэтической традиции с пушкинским текстом и – в особенности – с культурным арехтипом пророка.
Зимняя метафорика объединяет в стихах Лиснянской две пересекающиеся системы образов: историческая образность тесно взаимодействует с темой поэтического творчества. Символами немой эпохи становятся метафорически переосмысленные образы чистой / белой страницы, зимней тетради, белой / заснеженной столицы: Белая столица, / Зимняя тетрадь. / Помоги, синица, / Перезимовать (1977) [6, с. 95]. Семантическое родство образов, закрепленное цветовой символикой, актуализирует тему смерти, неминуемой гибели : Стихи твои, дети кровные, / Найдут наконец приют / В стране, где снега безмолвные / Слышнее людей живут (1972) [Там же, с. 50]. Рассматривая зимнюю метафорику в свете темы творчества, целесообразно провести параллель между поэзией И. Лиснянской и стихами М. Петровых. О художественно-эстетической близости своей поэзии художественному миру М.Петровых не раз упоминала в беседах и интервью И.Лиснянская. Тематический комплекс творчество–история воспринимается ими в христианском ключе: как жертвенный путь поэта сквозь вьюгу, и безлюдье, и ночную жуть истории. Нередко в их стихах наблюдается перекличка различных пластов традиции, например, религиозно-философская традиция в развитии мотива пути/дороги , странничества соотносится с образами ахматовского творчества, включающими читателя в близкий исторический контекст эпохи. Показательно в этом отношении стихотворение М. Петровых «Пустыня… Замело следы…», которое предваряет ахматовский эпиграф – «Непоправимо-белая страница…». Уже в начале стихотворения прослеживается очевидная контаминация двух символических топосов, маркированных отечественной литературной традицией: знойная пустыня и степь, заметенная пургою (очевидны аллюзии на пушкинские образы пустыни мрачной из стихотворения «Пророк» и заснеженной степи из «Капитанской дочки»). В образе бескрайней степи воплощается пространство России, основными признаками которого традиционно считается широта / простирание, бесформенность, отсутствие места / странничество. В «аффекте широты», как в моральной форме, располагаются определения русского характера: открытость, доброта, самопожертвование, удаль, склонность к крайностям [9, с. 132]. В другом стихотворении Петровых – «Смертный страх перед бумагой белой…» – сквозь беспросветную тьму российских просторов одиноко бредет странник, пролагая путь другой душе живой . Интересно, что его ритмика созвучна стихотворению М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…»:
Впереди ночной простор широкий,
И пускай в снегах дороги нет,
Он идет сквозь вьюгу без дороги,
И другому пролагает след (1956) [8, с. 57]
Однако в отличие от лермонтовской модели движения, в которой «я» представляет особый изолированный макрокосм [5, с. 195], у Петровых разобщение лирического Я с внешним миром, погруженным в сплошную тьму вечной зимы, преодолевается за счет встречи и диалога героя с Другим, с родственной душой : Где-то ждет его душа живая. / Чтоб ее от горя отогреть, / Он идет себя позабывая…/ Выйди на крыльцо и друга встреть [8, с. 57].
В поэзии Лиснянской мотив пути приобретает обобщенно-метафорический смысл, при этом основной акцент переносится на ситуацию выбора пути – жизненной дороги. Лиснянская передает атмосферу напряженного духовного поиска целого поколения 1960–1970-х гг., переживающего глубокий мировоззренческий кризис и находящегося в состоянии духовного перепутья». Как отмечает Ю.М. Лотман, образ идущего обладает в художественном тексте устойчивым смыслом: динамика в пространстве – не только знак контакта, но и знак внутреннего изменения. Поскольку каждый шаг его (героя – Н.Р .) изменение внутреннего состояния, он всегда дается в отношении к прошедшему и будущему [5, с. 193–194]. Подобный процесс внутреннего перелома можно наблюдать в стихотворении Инны Лиснянской 1973 г., посвященном А. Ахматовой. Автор воспроизводит центральный мотив ахматовской лирики – ночной приход Музы:
…Приходит Простая, Надменная
И будит меня по утрам.
И я пристаю к ней с вопросами:
Куда и зачем нам идти;
Зачем раскаленными розами
Мы хлещем себя по груди? [6, с. 59]
Примечательно, что в это же время в стихах Лиснянской происходит активное освоение темы национального зимнего пейзажа, появляется образ затерянной средь снега вешнего каторжанской тропы , воспринятый в традициях христианской этики страдания и жертвенности: Напрасно выбили / Из рук моих вино! / Я сладость гибели / Предчувствую давно. / Но не цыганская / Влечет меня гульба, / А каторжанская / Мерещится тропа [Там же]
Таким образом, тесная связь темы творчества с зимней символикой позволяет актуализировать широкий спектр поэтической традиции – начиная от классических образцов русской поэзии ХIХ в. и заканчивая традицией Серебряного века. Поэтический язык пореволюционных лет приобретает новую актуальность в поэтическом мире Инны Лиснянской 1960–1970-х гг., воспроизводится в историческом ракурсе современной поэту реальности, формируя за счет семантических модификаций пейзажной образности особую историческую метафорику эпохи безвременья. Символика зимнего пейзажа прочно соотносится в стихах Лисянской с топосом города, который отождествляется с «северным краем» как символическим воплощением геокультурного пространства России. Образ зимнего города осознается лирической героиней Лиснянской как чужое пространство и потому контрастирует с южным мифопоэтическим геопространством, эксплицирующим биографический топос Детства. При этом образы чужой страны , чужого города сближаются у поэта с мотивом души-заложницы , с важнейшими архетипами русского национального геопространства (странник, пророк), осмысленными в возвышенноромантическом, трагическом ключе.
Список литературы Топос города и символика зимнего пейзажа в поэзии Инны Лиснянской 1960-1970-х гг
- Ахмадулина Б. Избранное. Ростов н/Д: Феникс, 1998.
- Ахматова А. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Эллис Лак, 1998-2002. Т.3.
- Гаспаров М.Л. Метр и смысл. Об одном механизме культурной памяти. М.: РГГУ, 2000.
- Лавренова О.А. Географическое пространство в русской поэзии ХVIII -начала ХХ вв. (геокультурный аспект). М.: Институт Наследия, 1998.
- Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1972.
- Лиснянская И. Одинокий дар: стихи; поэмы. М.: О.Г.И., 2004.
- Мориц Ю. Суровой нитью. Книга стихов. М.: Сов. писатель, 1974.
- Петровых М. Предназначенье: стихи разных лет; сост.: Н. Н. Глен, А. В. Головачева. М.: Сов. писатель, 1983.
- Подорога В. Пространство, или География «русской души»//Хрестоматия по географии России. Образ страны. Пространства России/сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин. М.: МИРОС, 1994. С. 131-136.
- Страда В. Хронотоп России//Новая Юность. 1997. № 5-6 (26-27). С. 110-117.
- Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны. О литературном развитии ХIХ-ХХ вв. М.: Сов. писатель, 1988.
- Эткинд Е. У времени и вечности в плену//Время и мы. 1980. №49. С. 62-65.