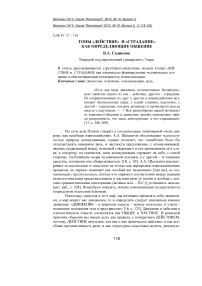Топы «действие» и «страдание» как определяющие общение
Автор: Садикова Валентина Алексеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и практики исследований
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются структурно-смысловые модели (топы) ДЕЙСТВИЕ и СТРАДАНИЕ как изначально формирующие человеческое сознание и обеспечивающие возможность коммуникации.
Движение, действие, коммуникация, цель
Короткий адрес: https://sciup.org/146120954
IDR: 146120954 | УДК: 81’
Текст научной статьи Топы «действие» и «страдание» как определяющие общение
«Есть два вида движения, количественно беспредельные: свойство одного из них – действие, другого – страдание. Из соприкосновения их друг с другом и взаимодействия возникают бесчисленные пары: с одной стороны, ощутимое, с другой – ощущение, которое возникает и проявляется всегда вместе с ощутимым. <···> Всё разнообразие вещей возникает от взаимного общения и движения, причём невозможно твёрдо разграничить, что здесь действующее, а что страдающее» [13, с. 208–209].
По сути дела Платон говорит о коммуникации , понимаемой очень широко, как всеобщее взаимодействие. А.А. Шахматов обосновывает психологическую природу коммуникации, однако полагает, что «ошибочно было бы отождествлять внешнюю речь, в частности предложение, с коммуникацией: являясь посредницей между психикой говорящего и тем проявлением её в слове, к которому он стремится, сама коммуникация отражает на себе, с одной стороны, глубочайшие недра человеческой психики, а с другой – те внешние средства, которыми она обнаруживается» [18, с. 20]. А.А. Шахматов рассматривает коммуникацию и мышление не только как неразрывно взаимосвязанные процессы , но первую понимает как «особый акт мышления» [там же], не совпадающий с предложением , потому что «прямого соответствия между нашими психологическими представлениями и частями речи [а значит и вообще с лексико-грамматическими категориями (вставка моя. – В.С.)] установить нельзя» [цит. раб., с. 428]. Попробуем показать, почему коммуникация осуществляется посредством движения/действия .
Поскольку, приходя в этот мир, мы начинаем проявлять себя движением, а мир вокруг нас динамичен, то и определить следует изначально именно движение: «ДВИЖЕНИЕ – в широком смысле – всякое изменение, в узком – изменение положения тела в пространстве» [16, с. 125]. Движение и действие в топологическом смысле соотносятся как ОБЩЕЕ и ЧАСТНОЕ. В реальной практике общения мы имеем дело, как правило, с конкретным ДЕЙСТВИЕМ, поэтому ДЕЙСТВИЕ актуально для нас и как физическое действие, и как всеобщая предикативность речи, и как структурно-смысловая модель, реализую- щая в конкретных ситуациях динамику мира и нашего существования (осуществления) в нём. Кроме того, ДЕЙСТВИЕ, хотя и может быть необдуманным или ошибочным, даже машинальным или автоматическим, не может быть непроизвольным и, как правило, целенаправленно (в отличие от движения, которое может быть непроизвольным). И начинаем мы, родившись (т. е. попав в определенные ОБСТОЯТЕЛЬСТВА места и времени), с нецеленаправленного движения, обусловленного нашими физиологическими потребностями (которые со временем перерастут в интенции и стремления, вплоть до «стремления к значимости»). Одни и те же категории актуальны не только для внешнего, но и для нашего внутреннего мира.
В связи с этим обратимся к понятию интериоризации, введённому французскими психологами (П. Жане, Ж. Пиаже, А. Валлон и др.) и понимаемому в отечественной психологии как преобразование структуры деятельности предметной в структуру внутреннего плана сознания: «Интериоризация действий, т.е. постепенное преобразование внешних действий в действия внутренние, умственные, есть процесс, который необходимо совершается в онтогенетическом развитии человека» [9, с. 128. Курсив мой. – В.С.]. На этой прозрачной и конструктивной идее основывается и современная соматическая теория языка, приобретающая всё б о льшую популярность, в основе которой непосредственная связь речевой деятельности и тела человека (см., например, [5; 14]), а значит языка и движения, языка и ДЕЙСТВИЯ. Наш изначально не целенаправленный «сенсомоторный опыт» постепенно (по мере того, как мы взрослеем) перерастает в целенаправленную деятельность и приобретает социальный характер. Всё – от платоновского «говорить – не есть ли одно из действий?» [12, с. 617] до глубоко обоснованных научных парадигм теории речевых актов и теории речевой деятельности – подтверждает всеобщность и глобальность структурно-смысловой модели ДЕЙСТВИЕ, «вершинность» её в качестве языковой категории. Вся человеческая культура есть воплощённое ДЕЙСТВИЕ, и знакомство с культурой чужой страны начинается для нас «с изучения установившихся (традиционных) действий», «с ознакомления со многими установившимися моделями деятельности» [2, с. 196].
«Что интериоризируется? Система социальных отношений , в той мере, в какой она представлена, «записана» в структуре общения между взрослым и ребёнком » [6, с. 115]. Это происходит, но это процесс вторичный. Сначала происходит непроизвольное движение родившегося ребёнка с естественными потребностями, требующими удовлетворения. Сознания как такового ещё нет; есть только внешние по отношению к будущей личности ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, а личность – внутреннее, которое только должно сформироваться. Освоение первичных категорий-топов, существующих в бытии и потому могущих «встроиться» – в превращённой форме – в сознание, и есть первичная инте-риоризация. Г.А. Ковалёв и Л.А. Радзиховский говорят о другом, более позднем, этапе и – главное – о социальной личности. Об этом много и убедительно писали Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев и др. Но для едва родившегося ребёнка существует только окружающий мир – в той степени, в которой этот мир соприкасается с его телом. И в этом смысле и пелёнка, в которую его завернули, мешая двигаться, и грудь матери, от которой он питается, пока для него не социальные факторы, но важнейшие ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
МЕСТА и ВРЕМЕНИ, с которыми он взаимодействует просто потому что родился.
Таким образом, изначально наши действия не осознаются и поэтому квалифицируются как движение . Наше живое и потому двигающееся тело подвергается действию (ПРЕТЕРПЕВАНИЮ) со стороны ОБСТОЯТЕЛЬСТВ места, времени, цели и ДЕЙСТВИЙ других людей. Постепенно этот процесс, который для окружающих взрослых людей уже давно социален, окрашивается социально и для ребёнка. ДЕЙСТВИЕ и СТРАДАНИЕ-ПРЕТЕРПЕВАНИЕ есть две стороны процесса интериоризации, два её «конца»: начинается с претерпевания, т.е. с «испытывания» воздействия, завершается формированием динамической структуры сознания, ментального пространства. «Завершение» это, конечно же, условно. Сформированная структурно-смысловая модель ДЕЙСТВИЕ каждодневно функционирует в нашей социальной жизни.
«СТРАДАНИЕ - физическая или нравственная боль, мучение: состояния горя, страха, тревоги, тоски, <■■■> по Шопенгауэру, страдание - критерий и содержание подлинной духовности» [16, с. 437]. Этот же смысл функционирует и в обыденном сознании, вероятно, потому, что воздействие со стороны других людей, действующих в собственных целях, часто воспринимается как насилие и противоречит нашим целям, вступает с ними в конфликт.
И. Кант, включив в свои предикабилии ДЕЙСТВИЕ и СТРАДАНИЕ, учёл динамику ментального «пространства» человека, потому что действовать - это не только поступать , но и думать . С ДЕЙСТВИЕМ связано и наше знание, ибо «разве моё знание чего-нибудь стоило, если бы оно не служило руководством к действиям? А может ли оно не быть таковым?» [3, с. 370].
Вся риторика построена на ДЕЙСТВИИ (воздействии) словом, которым «можно убить» и «можно спасти». Но так думает не только поэт. Это доказывают своей практикой и наблюдениями физиолог Н.А. Бернштейн и психолог А.Н. Леонтьев. Н.А. Бернштейн описывает опыты по восстановительной терапии больных с нарушениями двигательной функции, проведённые А.Н. Леонтьевым в годы войны: даже в очень тяжёлых случаях «амплитуда возможных произвольных движений поражённой руки способна измениться в очень широких диапазонах за счёт изменения одной только формулировки двигательного задания» [1, с. 42. Курсив мой. - В.С.]. Н.А. Бернштейн отмечает, что команда «поднять руку» значительно менее эффективна, чем команда «снять с крючка повешенный на нём предмет»: во втором случае больной поднимает повреждённую руку на 20–30 сантиметров выше. Таким образом, целенаправленное движение, перенос внимания на цель делает действие более эффективным. Нам представляется, что это справедливо не только для физического действия, но и для речемыслительного при общении. Досоциальный этап интериоризации в онтогенезе завершается именно тем, что человек начинает осознавать свои цели: «Формирование личности предполагает развитие процесса целеобразования и, соответственно, развитие действий субъекта» [8, с. 211]. Однако при всей несомненной конструктивности идеи о языке/речи как деятельности её реализация в некоторых научных парадигмах видится в частях речи: «начало языка надо искать там, где возникает глагол», потому что «глагол находится на рубеже речи, на стыке того, что сказано, и того, что вы- сказывается, то есть в точности там, где знаки начинают становиться языком» [17, с. 127].
«Именно в этой функции, – пишет далее М. Фуко, – и нужно исследовать язык, освобождая его от того, что беспрестанно его перегружало и затемняло, не останавливаясь при этом вместе с Аристотелем на том, что глагол обозначает времена (много других слов – наречий, прилагательных, существительных могут передавать временные значения), не останавливаясь также, как это сделал Скалигер, на том, что он выражает действия или страсти, в то время как существительные обозначают вещи и постоянные состояния (ибо как раз существует само это существительное "действие"). Не нужно придавать значение различным лицам глагола, как это делал Бук-сторф, так как определённым местоимениям самим свойственно их обозначать. Но следует выявить сразу же с полной ясностью, что конституирует глагол: глагол утверждает, то есть он указывает, что "речь, где это слово употребляется, есть речь человека, который не только понимает имена, но и выносит о них суждения" (Logique de Port-Royal, p. 106–107)» [Там же].
Идея М. Фуко конструктивна в том смысле, что он стремится обнаружить вы сшую функциональную единицу языка , определяющую и конституирующую язык в целом как средство коммуникации. Однако сосредоточиваясь на части речи как средстве выражения , он невольно отрывает речь (и язык) от всех других видов деятельности, а значит – и от мышления. Если же вернуть ДЕЙСТВИЮ ту функцию, которую М. Фуко отнимает у него и передаёт глаголу , мы избегнем этой изоляции. Совокупно с другими «вершинными» языковыми категориями, которые в речи функционируют как структурно-смысловые модели, именно топ ДЕЙСТВИЕ, а не глагол, есть тот самый механизм не только выражения, но и формирования мысли, не только речевой деятельности, но и любой человеческой целенаправленной деятельности вообще.
Л.С. Выготский пользуется более обобщённым термином предикативность. Понятие предикативности он распространяет и на внутреннюю речь, отмечая специфику её проявления в ряду письменная / устная / внутренняя речь, которая, по Выготскому, заключается в тенденции к сокращению, «к минимуму синтаксической расчленённости».
«Но то, что намечается в устной речи <···> как более или менее смутная тенденция, проявляется во внутренней речи в абсолютной форме, доведённой до предела как максимальная синтаксическая упрощённость, как абсолютное сгущение мысли, как совершенно новый синтаксический строй, который, строго говоря, означает не что иное, как полное упразднение синтаксиса устной речи и чисто предикативное строение предложений » [4, с. 344. Курсив мой. – В.С.].
Учёный отмечает сложность этого явления и подчёркивает, что предикативность внутренней речи не исчерпывается процессами сокращения, что она имеет «целый ряд структурных особенностей». Однако поскольку он мыслит (исходит, отталкивается) от речи, а не от мышления, то и особенности внутренней речи видит в отличиях от внешней речи: редуцирование фонетиче- ских моментов речи, независимость значения слова от его звуковой стороны, преобладание смысла слова над его значением и пр. [цит. раб., с. 345–350]. Картина меняется, если исходить из того несомненного положения, что мышление предшествует языку – как в филогенезе, так и в онтогенезе, и предикативность как общее СВОЙСТВО любого конкретного высказывания и речи в целом – СЛЕДСТВИЕ, а не ПРИЧИНА. А причина – в ДЕЙСТВИИ, в физическом изначальном движении. Об этом убедительно говорит Ж. Пиаже:
«Нам хотелось бы в нескольких словах объяснить, почему мы считаем, что язык согласуется со всем, что усвоено на уровне сенсомоторного интеллекта. Действительно, сенсомоторный интеллект уже содержит некоторую логику - логику действий, когда нет ещ1 ни мышления, ни представления, ни языка [Курсив мой. - В.С.] . Эти действия скоординированы согласно некоторой логике, уже содержащей множество структур, которые разовьются позднее самым ярким образом. Прежде всего имеется, конечно, обобщение (генерализация) действий. Например, ребёнок пытается схватить висящий предмет, ему это не удаётся, но он раскачивает его; тогда, весьма заинтересованный, ребёнок продолжает ударять по нему, чтобы заставить качаться, и в результате всякий раз, когда он видит висящий предмет, он начинает толкать его и раскачивать. Этот акт, несомненно, свидетельствует о начале логического обобщения, или интеллекта, у ребёнка. Основным феноменом на уровне этой логики действий является ассимиляция; ассимиляцией я называю интеграцию новых объектов или новых ситуаций и событий в предшествующие схемы ; я называю схемой то, что является результатом обобщения, пример которого я только что привёл выше. Эти схемы ассимиляции являются своего рода концептами, но концептами практическими» [11, с. 133].
В дальнейшем жизненный и речевой опыт не отменяют этого изначального сенсомоторного опыта: он продолжает питать нашу деятельность и тогда, когда мы о нём забываем, переводим в подсознание, а наша речь продолжает функционировать с опорой на это изначальное знание, хотя и социально обогащённое. Поэтому нам не кажется вполне адекватным анализ позиции Ж. Пиаже А.А. Леонтьевым:
«Существует точка зрения (Ж. Пиаже), согласно которой речь ребёнка развивается от эгоцентрической ( речи "для себя") к социализированной ( речи " для других"). По Л.С. Выготскому (сейчас это мнение общепринято), внутренняя речь представляет собой дальнейшую "интериоризацию" и "индивидуализацию" социальной речи , таким образом, внутренняя речь уходит своими корнями во "внешнюю" [Выготский 1956]» [7, с. 316].
В процитированном выше фрагменте Ж. Пиаже говорит ещё не о речи , даже не об «эгоцентрической речи» ребёнка , а о самом начале, о том, в чём заключается наша подлинно врождённая способность к языку, – в нашем действующем теле. «Внутренняя речь уходит своими корнями во внешнюю», но только в том случае, если говорить о её содержании , а не о способности к речи, которая формируется до речи и до языка посредством топов, ведущим из которых является ДЕЙСТВИЕ.
Нам представляется, что первая стадия, которую Ж. Пиаже называет «логикой действий», недооценена специалистами. Учёные, как правило, спешат перейти ко второй и третьей стадиям, когда ребёнок осваивает предметнономинативную функцию и (на втором году жизни) переходит к освоению собственно языка – осваивает символическую функцию в целом. В результате оказывается без должного внимания то, что Ж. Пиаже называет схемами и практическими концептами . Во-первых, это не количественные схемы в общеупотребительном смысле, а качественные схемы в духе А.Ф. Лосева (см. [15]), но отнесенные к ДЕЙСТВИЮ. Во-вторых, практические концепты Ж. Пиаже нельзя отождествлять с термином «концепты», принятым сегодня в когнитологии (ни с одним из его толкований). У Пиаже именно практические концепты – как изначальные, природные, прирождённые, может быть, то самое, что Декарт называл «естественным светом», а М.К. Мамардашвили связывал с изначально присущим нам движением/действием:
«Когда Декарт употребляет при характеристике человеческого мышления термин “естественный свет”, то он имеет в виду некое подсказывающее и управляющее действие в нас, которое совершается как бы без нашей воли и сознания и продукты которого не являются продуктами выдумывания, вымысла» [10, с. 94].
Таким образом, язык не может не содержать в качестве «вершиной» языковой категории ДЕЙСТВИЕ и его вторую ипостась, своё противоположно направленное – СТРАДАНИЕ-ПРЕТЕРПЕВАНИЕ, потому что всё живое пребывает в движении, деятельности, ДЕЙСТВИИ, потому что и неживое взаимодействует и видоизменяется. Человек не только воздействует, но и испытывает воздействие – предметов, ситуаций, поступков, высказываний и пр. Сама действи тельность немыслима без ДЕЙСТВИЯ. Процесс актуализа-ции/выбора того или иного топа в процессе коммуникации также есть деятельность, движение, ДЕЙСТВИЕ. Структурно-смысловые модели ДЕЙСТВИЕ и СТРАДАНИЕ теснейшим образом связаны с другими структурносмысловыми моделями, однако первичными следует считать именно эти топы: с них начинается наше сознание и ими – в первую очередь – реализуется наше общение.