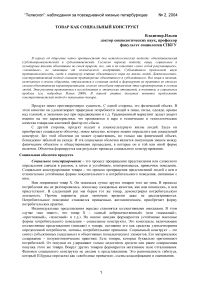Товар как социальный конструкт
Автор: Ильин Владимир Иванович
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Статья в выпуске: 2, 2004 года.
Бесплатный доступ
В науках об обществе четко противостоят два методологических подхода: объективистский (субстанционалистский) и субъективистский. Согласно первому подходу, вещи, социальные и культурные явления объективны по своей природе, т.е. они и их качества «само собой разумеющиеся», «очевидные», не зависящие от человеческого восприятия. Субъективизм предлагает иную противоположность, сводя к минимуму влияние объективного мира на жизнь людей. Деятельностно-конструктивисткий подход снимает противоречие объективного и субъективного. Все вещи и явления, включаемые в жизнь общества, отражаются в сознании людей и формируют их практики не столько своими объективными характеристиками, сколько способами отражения этих характеристик в головах людей. Эти различия проявляются в исследованиях и этнических отношений, и политики, и социальных проблем (см. подробнее Ильин 2000). В данной статье делается попытка предложить конструктивистский подход к пониманию товара.
Короткий адрес: https://sciup.org/142181553
IDR: 142181553
Текст научной статьи Товар как социальный конструкт
Нам понравился товар Х. Он показался лучше других товаров того же типа. В процессе потребления мы не разочаровались, поскольку ожидаемые качества, как нам показалось, в нем присутствуют. В следующий раз мы берем тот же товар, демонстрируя потребительскую лояльность. Прочие варианты ради экономии времени даже не рассматриваются. Потребительское поведение становится привычным, автоматическим, приобретает форму потребительских практик.
Индивидуальные представления нередко становятся коллективными имиджами. В этом случае «все знают», что товар Х – «самый доброкачественный» (или «надежный», «престижный», «полезный» и т.д.). На основе имиджа формируются устойчивые массовые формы потребительского поведения – социальные конструкты. Это комплексы, включающие коллективные представления (имиджи) о товаре, осознание его как средства удовлетворения определенной потребности, мотивы, потребительские привычки. Социальный конструкт – это синтез субъективных (идеальных) и объективных (поведенческих) элементов. Его материальное содержание – полуавтоматические практики. Есть товары, которые буквально притягивают потребителей. От покупки их удерживает только недостаток средств или ранее совершенная покупка этого же товара. Вокруг других товаров формируется негативное поле отталкивания. Феномен социального конструкта не сводим к представлениям. Это разновидность габитуса, который П.Бурдье определял как «свободные привычки», схемы классификации и оценивания.
Социальное конструирование включает разнообразные маркетинговые процессы: развитие продукта, упаковку, рекламу во всех ее формах, размещение товара, ценообразование, а также потребительский опыт и обмен впечатлениями о нем, повторяющиеся потребительские практики, ведущие к формированию привычек, схем восприятия.
Продукт включается в жизнь людей разными своими сторонами, соотношение которых очень сильно варьируется. Содержанием оболочки являются представления людей о нем, приписываемые ему качества. Эта идеальная составляющая оболочки материализуется в виде относительно устойчивых форм поведения людей в отношении данного продукта.
Продукт, будучи включенным в рыночный оборот, превращается в товар. В этом качестве он приобретает новое качество: рыночную (меновую) стоимость, т.е. способность в том или ином эквиваленте быть обмененным на другие товары, в первую очередь на деньги. Это новое качество выступает как цена.
Если продукт не включается в рыночный оборот, то он не приобретает и товарной формы, что предопределяет его потребление в рамках тех полей и сетей, где нет место купле-продаже (например, в семье, произведшей и съевшей собственный картофель).
Утилитарная потребительная стоимость
Для того, чтобы стать товаром, продукт должен обладать утилитарной потребительной стоимостью, полезностью. В объективистской методологии полезность - это совокупность объективных характеристик (например, технические параметры изделия). С точки зрения деятельностно-конструктивистского подхода, полезность - это представления людей о его способности удовлетворять те или иные их потребности (в пище, защите от атмосферных воздействий, передвижении и т.д.). Эти представления могут быть как априорными, опирающимися на косвенные или вообще уже не поддающиеся реконструкции источники, так и вытекать из опыта - собственного и лично наблюдавшегося чужого. Продукт полезен, если люди верят в это и подтверждают свою веру готовностью его потреблять. И он остается «полезным» до тех пор, пока потребительские практики не докажут обратное. Тогда он становится «ядовитым», «опасным», «вредным» и т.д.
Именно наличие представлений об утилитарной полезности продукта и является мотивом его приобретения, хотя далеко не единственным. Люди выбирают и покупают именно свои представления, имиджи, поскольку реальные свойства товары во всей своей полноте скрыты от их глаз в «черном ящике». Идеальный тип товара может существенно отличаться по набору качеств от реальной вещи. Даже эксперт не может быть уверенным, что приобрел именно то, что хотел, что оплаченные им представления соответствуют реальным свойствам товара, который часто предстает на рынке в виде «черного ящика». И чем он сложнее, тем вероятнее такая его форма. Только очень простые товары легко и однозначно обнаруживают свои потребительские свойства при поверхностном осмотре (например, спортивная гиря, ложка и т.п.). Большинство же товаров всегда содержат в себе большой запас неизвестности: можно только гадать, когда и в какой форме забарахлит компьютер, телевизор, автомобиль, какое реально влияние окажет на ваш организм не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе только что купленный продукт питания.
Лишь в процессе потребления продукт проявляет свои истинные характеристики. Представления хозяина о нем в процессе потребления существенно приближаются к реальности, хотя никогда с ними не совпадают не только по форме (в одном случае это имидж, в другом - материальный объект), но и по объему. Давно используемая вещь вдруг ломается в самом неожиданном месте, проявляя новые, не известные хозяину свойства.
Сравнительные же качества далеко не всегда проявляются даже в процессе потребления. Это особенно очевидно при использовании дорогих товаров, которые обычно не покупаются одновременно в нескольких экземплярах (например, автомобили, холодильник и т.д.). И здесь сравнения опираются на мифы, судить о происхождении которых очень сложно.
«Часы «Ролекс», в самом деле, точнее, чем «Таймекс»? Вы уверены?
«Лейка» действительно позволяет получить более четкие снимки, нежели «Пентакс»? Вы уверены?..
«Кока-кола» вкуснее «Пепси»? Большинство людей полагают, что это так, потому что по объемам продаж она стоит на первом месте». Но тесты показывают, что потребителям больше нравится вкус «Пепси» (Райс 2003: 53).
Сравнительные оценки утилитарных качеств товаров нередко опираются на такие косвенные показатели как рейтинг по доли рынка или даже утверждения рекламы. Сознание потребителей работает по своим законам, которые лишь очень опосредованным образом подвержены объективным характеристикам.
«Годы наблюдений позволили авторам, - утверждают известные американские маркетологи Л. и Э.Райс (2003: 54), - сделать следующий вывод: фактически нет прямой зависимости между успехом на рынке и результатами сравнительных тестов различных брендов, будь это проводимые независимыми экспертами тесты на вкусовые качества, на точность, надежность, долговечность и другие параметры… В недавнем исследовании шестнадцати брендов малолитражных автомобилей лучшая по качеству модель оказалась на двенадцатом месте по объему продаж. Вторая по качеству – на девятом, а третья значилась в самом конце списка. Если качество и влияет как-то на успех, то статистика этого не подтверждает».
Делению на объективные и осознанные потребности соответствует и деление на соответствующие типы полезности. Объективно полезный товар способен удовлетворить объективную потребность. Например, таблетка поливитаминов удовлетворяет объективную потребность организма в веществах, необходимых для его нормального функционирования. Однако потребитель реагирует не на объективную, а на осознанную полезность, т.е. на свои представления о ней. Именно за нее он платит деньги. Влияют ли покупаемые дорогие витамины на состояние нашего здоровья, а если и влияют, то в какую сторону, усваиваются они или нет – об этом мы можем судить в основном со слов экспертов, которые далеко не всегда близки к объективной информации, часто меняют свои выводы, противоречат друг другу. Таким образом, утилитарная потребительная стоимость – это социальный конструкт, который может быть более или менее точным отражением объективных свойств приобретаемого товара или полной иллюзией.
Даже если товар покупается по причинам, далеким от его утилитарных качеств, человек часто стремится рационализировать свою покупку, ссылками на функциональные качества, которые в реальности никогда не будут использованы. Широко распространен феномен избыточной функциональности: люди приобретают мобильные телефоны, компьютеры, автомобили и многие другие технически сложные товары, обращая внимание на перечень имеющихся у них утилитарных характеристик. В действительности же оказывается, что обычный пользователь никогда не будет даже разбираться в функциях своего мобильника, которые предназначены для узкого круга технически продвинутых бизнесменов, в возможностях компьютера, существенно превосходящих потребности его потребителя и т.д. Между тем, именно за эту ненужную полезность платятся огромные деньги. Не удивительно, что многие фирмы, зная эту слабость людей, наделяют свои новинки все новыми и новыми функциями. В этих случаях утилитарные качества камуфлируют совсем другие мотивы покупок.
Полезность вещи всегда соотносится с практиками потребителей. Разные практики – разные критерии оценки. На рынке алкогольной продукции одни стремятся купить напиток, который быстрее «валит с ног», другие ищут удовольствия от вкуса, третьи интересуются его полезностью или степенью безвредности. В результате один и тот же продукт будет совершенно справедливо по-разному оценен разными потребителями.
Традиционно экономическая наука и здравый смысл акцентировали и продолжают акцентировать внимание именно на утилитарной потребительской стоимости. Да, она лежит в основе большей части покупок, однако такими характеристиками как прочность, удобство, экологическая чистота, красота и т.п. далеко не все можно объяснить, не впадая в большие натяжки. Человек, покупающий дом в сотни квадратных метров, автомобиль, стоящий сотню и более тысяч долларов платит только за эти качества? Они не объясняют потребления ни престижных, ни модных вещей. Они не связаны с феноменом их морального старения.
Товар как источник риска
Одной из характеристик товара является степень его безопасности . Потребность в безопасности является одной из базовых. Однако в данном случае речь идет не о товарах, удовлетворяющих эту потребность (например, средства охраны и сигнализации), а о безопасности обычного товара.
Есть разные подходы к пониманию риска . Т.н. «реалистический подход» интерпретирует риск в категориях естественных наук, но используется и в статистике, и в экономике, технических дисциплинах. Исходной точкой в анализе риска при таком подходе является понятие опасности или вреда (как противоположности полезности). Опасны просроченные продукты питания, опасны недостаточно чистые кафе, опасны автомобили с неисправными тормозами и т.д. При таком подходе опасность рассматривается как объективный феномен, как угроза здоровью, жизни или статусу. «Риск трактуется как объективный и познаваемый факт (потенциальная опасность или уже причиненный вред), который может быть измерен независимо от социальных процессов и культурной среды» (Яницкий 2003, №1: 4). Соответственно, риск – это вероятность возникновения такой опасности. Степень риска или степень безопасности, связанная с потреблением товара, является одной из важных его характеристик.
Очень многие фирмы позиционируют свой товар как безопасный (например, «Вольво»). Производители водки косвенно делают то же самое, убеждая потребителей, что «паленая», т.е. фальсифицированная, водка опасна для здоровья. В доказательство приводятся факты отравления многих людей дешевой водкой из киосков, умалчивая, что миллионы людей спились или подорвали свое здоровье, употребляя «настоящую» водку. Вывод, следующий из этого, прост: «наша» водка хотя и дороже, но зато безопасна (т.е. прямого отравления от нее не будет). Дополнительная цена выступает как плата за дополнительную потребительную утилитарная стоимость – безопасность.
Социокультурное направление в изучении рисков рассматривает этот феномен как результат процесса социального конструирования. Потребитель покупает и пьет воду, которую он считает «безопасной». Одни с удовольствием и активно пьют жидкость «Троя», считая ее безопасной, другие определяют ее как продукт, не приемлемый для внутреннего потребления. Поскольку многие объективно вредные продукты дают эффект не сразу, порою через многие годы, то категории «безопасности», «вреда», «риска» превращаются в социальные конструкты, порожденные определенной социокультурной средой. «Безвредное» вчера, сегодня вдруг оказывается «опасным» в результате новых открытий в науке или просто обнародования ранее засекреченной информации (например, населенные пункты вблизи центров ядерных испытаний).
Такие объективные характеристики как «безопасность» и «вредность» товара оказываются информацией, запакованной в многослойный ящик, стенами которого являются 1) степень приближения к ней экспертов (алхимики и шаманы тоже были экспертами), 2) мера готовности экспертов, поделиться своей информацией с окружающими людьми, 3) механизмы доведения этой информации до рядовых граждан, потребителей. Иначе говоря, объективная истина проходит через социокультурные фильтры, которые ее существенно трансформируют как в количественном, так и качественном отношениях. Только после такого прохождения всех фильтров информация превращается в социальный факт. Опасность, о которой мы и не подозреваем, не влияет на наше поведение.
Многие риски, объективно заключенные в потребляемых товарах, не видимы невооруженным глазом. Они вскрываются только экспертами. Для того, чтобы эти обнаруженные экспертами характеристики стали социальными фактами, влияющими на поведение массы потребителей, они должны пройти очередную метаморфозу. «В них требуется поверить, испытать их на собственном опыте в таком виде невозможно» (Бек 2000: 32). Опасность, в которую люди не верят, не существует как социальный факт.
По отношению к абсолютному большинству товаров даже очень образованные потребители являются дилетантами. «Человек принципиально зависим от чужого знания. Жертвы становятся некомпетентными в деле, касающемся их собственной жизни» (Бек 2000: 64). Беря в руки вещь, мы можем лишь догадываться о степени ее безопасности. Как утопающий за соломинку, мы цепляемся за разрозненные знаки, которым приписываем способность приближать нас к истине. Этот товар продается в магазине, который проверяется санэпидстанцией, значит, он безопасен. Но память подсказывает примеры отравлений товарами, которые тоже не на помойке были найдены. Мы слышали рекламу этого товара как полезного. Однако червь сомнения спрашивает: какой же дурак будет рекламировать свой товар как вредный? Эта реклама звучала по государственному телевидению, не могут же там сознательно обманывать?! Однако после массированной телевизионной рекламы «МММ» и многих подобных «пирамид» какой же простотой надо обладать, чтобы рассматривать государственное СМИ как знак качества передаваемой информации? По телевидению выступал врач, утверждавший, что этот товар безопасен. Но кто знает, кто и сколько этому врачу заплатил за нужные слова? Мы уже давно привыкли, что продается все, включая и мнение эксперта.
Потребитель повсюду, а в России особенно, понимает, что он дилетант, осознает окружающие его риски, связанные с потреблением. Но что же делать? Можно нести каждый товар перед употреблением на экспертизу, ожидать от каждого полета или поездки катастрофы, но ведь так быстро сойдешь с ума! И большинство выбирают доверие как реакцию на безвыходное положение. Лучше отравиться, чем попасть в психбольницу. И мы потребляем товары, приписывая им ту или иную меру безопасности. Мы пьем водопроводную воду, стараясь не думать о том, откуда ее берут. Мы убеждаем себя в ее безопасности и подыскиваем аргументы, наивность которых очевидна: «Давно уже пьем, а до сих пор ничего не случилось» . По словам У.Бека (2000: 40), «риски можно узаконивать таким образом, что их нежелательное производство будут не замечать». И это происходит повсеместно. Не замечают потребители, не замечают эксперты, СМИ, государство. Мы свыкаемся с рисками. Они становятся атрибутом обычной жизни. Риски везде, и единственное спасение - о них не думать.
При этом на формирование фильтров, через которые до нас доходит информация о рисках, содержащихся в товарах, влияют многообразные социальные, экономические и политические интересы. Во имя борьбы за первенство в гонке вооружений, в нашей стране десятилетиями замалчивалась информация об угрозе радиации, порождаемой ядерными испытаниями. И люди жили, ощущая себя в безопасности, выращивали и потребляли «безопасные» продукты. «Высшие политические интересы» толкали к замалчиванию реальной опасности чернобыльской катастрофы. И эксперты, служа этим интересам, уверяли население мира, что все хорошо, что все под контролем. Борьба за экономический успех (на уровне страны или фирмы) часто также толкает к редактированию информации. «Чтобы четко не определять верхних границ выброса вредных веществ и ослабить контроль за ними или вообще не исследовать (не искать) наличие вредных веществ в продуктах питания, грозят сокращением рабочих мест. В интересах производства не подвергаются изучению (не регистрируются) целые группы ядовитых веществ; они как бы не существуют и поэтому могут свободно распространяться» (Бек 2000: 54).
Безысходное доверие срабатывает при отсутствии альтернативы. И фирмы монополисты процветают именно на таком доверии. Когда же появляется конкуренция, страхи и подозрения, загнанные нами в глубь души во имя ее здоровья, начинают вылезать наружу. Если есть товар, который нам кажется более безопасным и при этом вписывается в рамки нашей платежеспособности, то мы отдаем предпочтение ему. Но его безопасность – это тоже социальный конструкт, т.е. объективная истина, отражающаяся в часто кривом зеркале науки и СМИ.
Отношение к рискам, содержащимся в товарах, нельзя оценивать только с точки зрения потребности в безопасности. Рациональный потребитель тщательно рассчитывает пути уменьшения рисков. Потребитель, которому некогда или страшно думать о рисках, просто закрывает глаза.
Но есть люди, ищущие риски. Для них риск превращается в важное функциональное качество товара, услуги. Любителям экстремальной жизни нужна не безопасность, а адреналин. Рискованное потребление позволяет им конструировать свою идентичность: «Я смог это!» Или, как поется в одной альпинистской песне, «пройти такую круговерть дано не слишком многим» . В этом контексте риск превращается в дополнительную потребительную ценность, за которую многие готовы платить.
Символическая стоимость
Многие продукты имеют способность выполнять роль средства коммуникации. Они обладают свойствами знаков и символов, что превращает их потребление в текст. Люди, зная об этих свойствах вещей, наделяют их символической полезностью. Наличие у вещи символической стоимости, т.е. представления потенциальных потребителей, об их способности выступать в качестве символов, придает ей дополнительную привлекательность, создает готовность платить дополнительные суммы за это качество. В результате престижная вещь стоит, как правило, существенно дороже, чем аналогичная по своим утилитарным свойствам вещь, лишенная символической стоимости.
С помощью символической стоимости товар удовлетворяет две противоположные потребности: быть похожим на других и отличаться от других. Однако «другие» в каждом случае – разные. Люди хотят быть похожими на тех, кто занимает престижные позиции, и отличаться от тех, из кого состоит масса.
Для покупателя символа потребительная стоимость либо вообще не нужна, либо сопутствует основной покупке. Престижный товар обладает непропорционально большой долей именно символической стоимости. Его покупают в первую очередь по этой причине. Функциональные же качества имеют второстепенный характер, они часто используются в качестве инструмента рационализации покупки. Автомобили класса «Люкс» - типичный пример таких товаров. По своим важным для потребителя функциональным качествам они часто несущественно отличаются от хороших автомобилей немного более низкого класса. Потребитель престижного товара рационализирует свою покупку в рациональных терминах, приписывая ей повышенные функциональные качества. При этом, как правило, сам он об этих качествах компетентно судить не может. «Цена серийной модели «Мерседеса» примерно вдвое превышает цену сопоставимого с ней по качеству «Кадиллака». «Мерседес», считает покупатель, должен быть лучше «Кадиллака», поскольку стоит в два раза дороже» (Райс 2003: 45).
Символическая стоимость проявляется в разных формах, обозначающих принадлежность обладателя товара к разным типам, группам людей: богатым, власть имущим, модным, спортивным, «крутым» и т.д.
Товар, в котором велик символический компонент, реклама подает с помощью слогана: «По таким часам (автомобилю, костюму и т.д.) понимающие люди узнают». Символический компонент стоимости товара особенно важен для конструирования индивидом своей идентичности. Он призван превратить самоидентификацию в реальный факт, признаваемый значимыми для индивида другими людьми. Если «Я моден», то мне нужны товары, которые издалека распознаются как модные объекты. Если «Я молод», то нужны товары, несущие на себя ярко выраженные символы молодежных субкультур.
С символической стоимостью товара связаны специфические риски. Символический риск – это вероятность того, что данный товар станет текстом, чтение которого может вызвать неблагоприятную реакцию. Такой товар окружающие «не так поймут», его обладателя «примут не за того» и т.д. Нередко символические риски пугают больше, чем угроза здоровью и жизни. Они угрожают статусу индивида или группы, создают опасность подрыва престижа. Подход к символическим рискам также может быть с позиций как реализма, так и конструктивизма. В первом случае риск – это объективный шанс столкнуться с неблагоприятными следствиями интерпретации символов. Во втором случае символический риск – это представления людей о возможных последствиях интерпретации данного товара.
Социальная стоимость
Многие продукты обладают в глазах потребителей способностью обеспечивать общение. Они выступают поводом для общения и интеграции. В результате люди, формально покупая только их, в действительности приобретают общение. Такой стоимостью обладают все напитки и продукты питания, предлагаемые в кафе и ресторанах. Люди готовы платить за бутылку пива в кафе в 2 – 3, а то и в 10 раз больше, чем она стоит в магазине, поскольку бутылка там превращается в предмет, вокруг которого организуется общение. Аналогичным образом меняется стоимость кофе, чая, пирожных и т.д.
При этом общение не обязательно выступает в форме беседы, дискуссии. Это может быть и молчаливое пребывание потребителя пива в наблюдаемой им толпе.
Некоторые товары и услуги - это пропуск в те или иные социальные сети. Если эти сети важны, то товар, открывающий доступ к ним, приобретает дополнительную (социальную) стоимость (ценность). К этой категории относятся разные виды клубного потребления. Люди переплачивают за обычные товары и услуги (пиво, пища, бассейн или спортзал) в несколько раз. Разумеется, они платят не столько за сам товар, сколько за его функцию социального ключика. Многие товары открывают доступ в группы, формирующиеся на основе стиля потребления. Поэтому благодаря наличию социальной стоимости товар удовлетворяет потребность людей в принадлежности к важной для них группе не только символически, но и в форме общения с ее членами.
Товар как имидж
На рынке мы платим за свои представления о товаре. Реальные качества товара важны лишь в той мере, в какой покупатель верит в их наличие. И потребление же далеко не всегда является критерием истины.
Цивилизованный рынок, в той или иной мере контролируется государством и разными общественными ассоциациями (например, врачей), опирающимися на оценки экспертов. В обществе, находящемся в стадии трансформации, рынок лишь постепенно приобретает ограничивающие его формы, заставляющие думать не только о прибыли. Поэтому в постсоциалистических обществах рынок имеет степень свободы, немыслимую для развитых рыночных стран. С разрешением в России свободной торговли масса людей, утративших возможность обычным путем зарабатывать себе на жизнь, вышла на улицы, предлагая на продажу домашние вещи, пирожки, где-то и когда-то купленные продукты питания и т.д. Затем постепенно начали вводиться ограничения, правила торговли. Еще позже власти начали как-то следить за соблюдением этих правил. Однако российский рынок еще надолго остался зоной свободной продажи иллюзий. Если их не разделяешь - проходи дальше и не мешай бизнесу!
Реклама приписывает массе товаров и услуг различные, часто чудесные качества. Если это не связано с прямой и очевидной угрозой жизни людей, то никто не препятствует торговле представлениями.
Первоначальное накопление капитала в постсоветской России во многом строилось на продаже населению именно иллюзий. Миллионы людей, поверили рекламе и обменяли свои приватизационные ваучеры на акции различных фондов, обещавших большие дивиденды и устойчивый рост стоимости акций. Каждый был свободен решать покупать ли эти акции как серьезный шанс или отнестись к ним как к продаже воздуха. Когда сбор ваучеров закончился, фонды куда-то исчезли.
Затем в моду вошел новый бизнес, построенный на торговле схожими чудесами: финансовые пирамиды. Классика жанра - «МММ». Всем желающим предлагалось покупать билеты (акции и т.д.) этих фирм, гарантировавших получение невиданных дивидендов. Миллионы людей купили бумажки, поверив в их чудодейственную силу. Естественно, все кончилось провалом: фирмы рухнули, вместо денег остались бумажки как память о вчерашней собственной глупости. Государство вмешалось в эту торговлю, когда пирамиды прошли пик своего бизнеса: деньги были собраны и организаторы уже думали о том, как свернуть свое дело. И тут вмешалось государство. Пирамиды рухнули, а огромные деньги, собранные в ходе продажи экономических чудес, исчезли. В результате организаторы пирамид до сих пор утверждают, находя понимающую их аудиторию, что если бы не вмешательство государства все для всех было бы хорошо.
В постсоветской России крайне доходным бизнесом стала торговля и иными чудесами. Все СМИ переполнены предложениями услуг ясновидящих, колдунов, астрологов, экстрасенсов:
«Зеркальный коридор – эффективная магическая практика по воздействию на жизненный путь человека. Безгрешный возврат любимых (приворот) – обучение наведению любовных чар».
«Каролина снимает родовые проклятия как с человека, так и с его семьи, … изгоняет и усмиряет злых духов…».
«Потомственная колдунья избавит вашего мужа от пьянства и азартных игр… Разожжет огонь желаний между супругами».
Потребитель может верить или смеяться. Первые платят за свою веру, вторые в недоумении проходят мимо. Продается не обещанный результат, а именно вера в его возможность.
Один из самых прибыльных видов бизнеса – торговля медицинскими чудесами. Реклама предлагает аппараты и препараты, которые лечат если даже не от всех болезней, то от многих и очень серьезных. Дело потребителями решать: верить в это или не верить. Те, кто поверил, платят за свою веру в чудо. Наличие рекламируемых качеств порою проверить либо очень трудно, либо невозможно. Кто и зачем будет проверять чудесные качества пока широко продаваемых пирамид?
Одна из попыток борьбы за честный рынок – создание в России в 1998 г. Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Данная комиссия разоблачает тех продавцов чудес, которые предлагают товары и услуги, противоречащие современным (!) научным представлениям. Если мы верим в незыблемый авторитет науки, то такие разоблачения для нас убедительны. А если мы видим, что научные представления часто меняются, что научная медицина на каждом шагу оказывается бессильной, и наш конкретный случай не дает оснований для оптимизма в рамках сугубо научного подхода? Многие чудесные средства, с точки зрения членов комиссии, противоречат законам природы. Однако основная масса даже образованных людей имеет представление лишь о самых простых законах природы, поэтому в их сознании никакого противоречия нет. Реклама чудес идет по государственному телевидению, в разных печатных изданиях, в т.ч. и имеющих имидж «серьезных». Голоса научных скептиков совершенно не слышны. И это естественно: если расходы на рекламу чуда окупаются, то издержки на его разоблачение компенсируются сомнительным моральным удовлетворением вечно проигрывающего бойца. Появление в этом контексте чудесного лекарства или прибора неизбежно вызывает у многих желание ими воспользоваться. Все это – характеристики современной культуры потребления российского общества. Руководитель комиссии по борьбе с лженаукой академик Э. Кругляков так охарактеризовал культурную атмосферу страны: «… Идет осознанное систематическое оболванивание населения. В результате дельцы-изготовители подобного рода приборов чувствуют себя в нашем обществе как рыба в воде. Оглупление достигло такого уровня, что обыватель может поверить во что угодно». В качестве примера академик привел широко разрекламированный и популярный циркониевый браслет: «Цирконий – обыкновенный металл, применяющийся в ядерных реакторах. В последние годы в связи со спадом строительства атомных электростанций возник избыток циркония. А вернуть потраченные на его производство деньги как-то нужно, вот и придумали браслеты» («АиФ. Здоровье. 2004. №12: 6).
Атрибутом постсоветской массовой культуры стала астрология. Трудно найти человека, который бы никогда не заглядывал в гороскоп. Огромные средства тратятся на покупку СМИ и отдельных книг с прогнозами и советами астрологов. Процветает соответствующий рынок услуг. 1
Однако при покупке и совсем простых товаров и услуг мы также сплошь и рядом платим деньги за свою веру, за вызывающие у нас доверие мифы. Кто проверял чудодейственные свойства рекламируемых и широко продаваемых продуктов питания? Единственный достоверный для нас факт, что от этого йогурта (сока, пищевой добавки и т.д.) люди быстро не умирают. Но у нас нет выбора, и мы покупаем мифы рекламы, которые опираются на исследования ученых или на фантазию маркетологов.
Рыночная стоимость товара
Одна из ключевых характеристик любого товара - его рыночная стоимость, проявляющаяся в цене. Вещь, не имеющая рыночной стоимости, не является товаром. Функции цены как регулятора отношения потребителя и товара весьма многообразны.
Цена – это ключевой экономический регулятор доступа к товару. Низкая цена делает товар доступным для широкого круга покупателей, высокая закрывает его для групп с низкими доходами. По этому критерию люди делят товары на «доступные» и «недоступные». Дешевый товар привлекает доступностью. Отсюда стратегия распродаж, стимулирующих сбыт. Чем дешевле товар, тем он доступнее.
Рационально мыслящий потребитель обычно стремится использовать комплексный индикатор, показывающий соотношение цены и утилитарного качества товара. Этот критерий широко распространен и в маркетинге. При таком подходе символический компонент не очень важен. Хороший товар тот, который полезен и доступен по цене, т.е. имеет оптимальное соотношение «цена/качество».
В этом контексте цена выполняет функцию символа рационального человека, который умудряется дешево покупать функционально качественные вещи. Такие покупки выступают как проявления рыночного успеха. Они часто обсуждаются среди знакомых, ими гордятся, им завидуют. В результате товар приносит дополнительное удовлетворение, поднимая его обладателя в собственных и чужих глазах. Те, кто гонится за такой рыночной удачей, - частые посетители распродаж. Они охотно ходят по магазинам, сравнивая цены и выискивая вариант с оптимальным соотношением цены и утилитарного качества. Нередко эта категория покупателей первой попадается на удочку продавцов, которые устраивают распродажу, снижая до нормального уровня первоначально вздутые цены. И человек покупает не только товар с определенными утилитарными свойствами, но и ощущение удачи: он «всего» за 1 тыс. рублей купил вещь, стоящую 2 тыс.! В этой ситуации неизбежно возникают преувеличенные представления о размере индикатора цена/качество.
Цена также выступает как знак, несущий потребителю информацию об утилитарном качестве товара. Этот знак не является объективным свойством, содержащимся в самом товаре. Это представления потребителей о том, как цена может быть интерпретирована. И здесь отражение реальных экономических процессов в той или иной мере облекается в форму потребительских мифов. Один из наиболее распространенных мифов гласит: «Хорошая вещь не может быть дешевой». Доказать это проблематично, остается только верить.
Цена товара устанавливается с учетом его себестоимости. Нормальная цена не может быть ниже издержек на производство данного товара. Широко распространенный метод ценообразования основывается на формуле: себестоимость + прибыль. В силу этого цена товара является индикатором издержек на его производство.
Однако нет какой-то логически обоснованной связи между размером издержек и утилитарными свойствами товара. Издержки могут быть высоки потому, что использовалось качественное сырье, высоко квалифицированные работники. В этом случае высокая цена может отражать высокое качество.
Однако гораздо чаще издержки производства высоки в силу низкой производительности труда, отсутствия современной техники, плохой организации производства и т.д. Десять российских работников обычно делают работу, выполняемую в более развитых странах одним – двумя. Шурупы можно вкручивать простой, а не электрической отверткой, что гарантирует повышение трудозатрат в несколько раз при падении качества. Только низкая оплата труда не ведет к превращению этих трудозатрат в знак высокого качества. Однако на внутреннем рынке производитель, использующий эффективную современную технику, уже сталкивается с риском интерпретации своего более дешевого товара как менее качественного.
Порою производительность труда понижается сознательно для обоснования высокой цены как знака качества. Например, широко распространен потребительский миф о преимуществах ручного труда. Опираясь на него, продавцы объясняют заоблачные цены тем, что это «ручная вязка», «ручная сборка» и т.д. Потребитель не имеет информации, доказывающей, что это лучше, но верит в миф и платит за свою веру. Потребительский миф о невозможности дешевого качественного товара позволяет не думать о более очевидном тезисе: ничто не мешает продавцу сделать плохой товар дорогим. Сила потребительского мифа о ценообразовании в психологическом механизме рационализации: человек покупает по невежеству более дорогой товар и для обеспечения психологического равновесия уверяет себя в том, что цена – индикатор качества. Когда нет информации для взвешенного принятия решений, остается только верить мифу.
Совершенно иной вариант символической функции цены – использование ее для обозначения высокого экономического статуса. Чем дороже вещь, чем выше ее символическая стоимость, тем выше ее способность обозначать преуспевающего на рынке человека. Цена часто выступает как ключевой инструмент престижного потребления. Она буквально кричит: «Я могу себе это позволить!» Для тех, кому нужно обозначить свою принадлежность к слою богатых, не нужна качественная вещь по доступной цене. Им нужна вещь, доступная немногим обладателям тугих кошельков. Очень функциональные вещи по низким ценам их отталкивают в силу низкой символической стоимости. Фирмы, работающие на рынке богатых и состоятельных людей, стремятся не портить товары, доступными ценами, которые будут отпугивать этих покупателей.
Высокая цена выполняет также функцию социального закрытия товара. Делая его недоступным для многих, она делает его штучным, мелкосерийным – качество, очень ценимое многими потребителями. Человек платит высокую цену за товар, обладающий обычными утилитарными качествами, только потому, что он позволит выделиться из толпы. Такой товар позволяет конструировать индивидуальность, разумеется, не неповторимую (поскольку товар выпущен не в единичном экземпляре), но, по крайней мере, мелкосерийную. Закрытие группы потребителей какого-то товара с помощью высокой цены позволяет снизить концентрацию членов данного поля: число людей в одинаковых куртках на улице, количество посетителей в ресторане. Поэтому очень высокие цены в том или ином ресторане или гостинице отнюдь не обязательно означают высокое качество пищи, обслуживания и т.д. Нередко клиенту предлагается заплатить просто за возможность побыть в полупустом заведении.
Многие товары с помощью высокой цены позволяют закрывать социокультурные поля от людей с недостаточно высокими доходами. Это дорогие районы городов и пригороды, элитные поселки и дома, дорогие рестораны, гостиницы и т.д. В данном случае люди платят за возможность не быть в одной кампании или по соседству с теми, кого они считают хуже себя. Часто это рационализируется с помощью утверждения, что здесь «приличная публика». Действительно, цена выполняет роль швейцара или охранника, не допускающего в данное пространство бомжей, нищих, рабочих, рядовых служащих, низкооплачиваемую интеллигенцию. Однако этот социальный фильтр никак не мешает банкиру иметь смежные лужайки для игры в гольф с руководителем успешной банды.