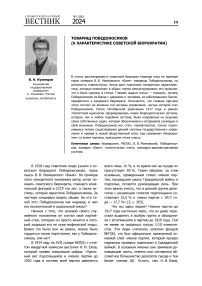Товарищ Победоносиков (к характеристике советской бюрократии)
Автор: Кузнецов В.Н.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 2 (50), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается советский бюрократ периода нэпа на примере героя комедии В. В. Маяковского «Баня» товарища Победоносикова, по должности главначпупса. Автор дает персонажу конкретные характеристики, которые позволяют в общих чертах реконструировать его прошлое, что и было сделано в статье. Главная задача статьи - показать, почему Победоносиков из борца с царизмом и человека, не избалованного бытом, превратился в махрового бюрократа. Отмечается, что главная причина этого состоит во влиянии той системы управления, частью которой стал Победоносиков. После Октябрьской революции 1917 года в рамках этатистской идеологии сформировалась новая бюрократическая система, которая, как и любая подобная система, была направлена на решение своих собственных задач, которая обезличивала и встраивала служащих в свой механизм. Победоносиков мог стать главначпупсом, только подчинившись логике существования данной системы государственного управления и прейдя в новый общественный класс под названием «бюрократия» со всеми чертами, присущими этому классу.
Бюрократия, ркп(б), в. в. маяковский, победоносиков, комедия «баня», политическая элита, командно-административная система
Короткий адрес: https://sciup.org/14133106
IDR: 14133106
Текст научной статьи Товарищ Победоносиков (к характеристике советской бюрократии)
В 1928 году советские люди узнали о советском бюрократе Победоносикове, герое пьесы В. В. Маяковского «Баня». На примере этого конкретного чиновника автор хотел показать советского бюрократа, ставшего влиятельной фигурой в СССР тех лет, а также систему, которая взрастила Победоносикова. За частным следовало видеть общее. Но кто такой этот Победоносиков как индивид, в чем его политический и социальный смысл?
Начнем с того, что основой своего служебного положения он считал свой партийный стаж, которым он просто кичится и который защищал его не хуже мифической эгиды. Важно это было или не важно, можно было гордиться таким партстажем, как у Победоно-сикова, или нет?
В 1934 году на XVII съезде ВКП(б) с отчетом мандатной комиссии выступил Н. И. Ежов, который привел следующие цифры: «Удельный вес подпольщиков и членов партии до 1920 года в составе всей партии равняется всего лишь 10 %, в то время как на съезде их присутствует 80 %. Таким образом, за этим основным, проверенным слоем членов партии, прошедшим школу Гражданской войны и подполья, остается руководящая роль. При этом важно учесть, что в данной группе делегатов с решающим голосом подпольщики составляют 22,6 % и члены партии с 1917 года — 17,7 %» [3, с. 303].
Что мы здесь видим? Членов партии до 1917 года настолько мало, что их даже перестали выделять в особую группу и объединили с вступившими в партию до 1920 года. Тем не менее их оказалось только 1/10 коммунистов. Эти люди считались золотым фондом ВКП(б), это был официально признанный основной слой членов партии, который прошел надежную проверку подпольем и Гражданской войной. В основном именно они занимали руководящие посты, именно они составляли абсолютное большинство делегатов съезда и тем более членов ЦК. Кстати, сам Н. И. Ежов, избранный на съезде членом Центрального комитета ВКП(б), вступил в партию в августе 1917 года, когда ему было 22 года.
Победоносиков, принадлежавший к этому основному, руководящему слою партии, по неписаному, но твердо исполняемому праву занимал свою должность, поэтому он был так уверен в своем положении, в его непоколебимости. Его стаж был ему прочной защитой. Недаром возмущенный Велосипедкин вопрошает: «Но что можно сделать с этим проклятым товарищем Победоносиковым? Он просто плющит каждого своими заслугами и стажем». И это действительно было так. Кто мог ровняться по этому важнейшему критерию с Победоносиковым? И уж тем более это касается тех, кто окружал его в руководимом им учреждении.
В каком же году Победоносиков вступил в партию? Ответ удивит. Он — один из старейших членов партии. Вспомним слова того же Велосипедкина: «Потом он утек из тюрьмы, засыпав страже табаком глаза. А сейчас, через двадцать пять лет, само время засыпало ему глаза табаком мелочей и минут, глаза его слезятся от довольства и благодушия». Пьеса написана в 1928 году. Следовательно, побег Победоносикова из тюрьмы проходил в 1903 году. Именно в этом году на втором съезде РСДРП в Брюсселе-Лондоне была создана социал-демократическая партия, т. е. до этого года ее фактически и не было, хотя, например, в партийном билете В. И. Ленина, выданном в 1922 году, в графе «время вступления в партию» был указан 1893 год. Но это Ленин, ему можно. Неудивительно, что в разговоре с Полей Победоносиков называет свой партстаж «выдающимся», и он не лжет.
Побег с помощью табака, брошенного в глаза страже, действительно встречался среди российских заключенных того времени. Об одном из таких случаев упоминает русский революционер-народник и писатель Л. Мель-шин (П. Ф. Якубович).
Логично звучат слова Бельведонского, обращенные к Победоносикову: «Товарищ Победоносиков, разрешите мне продолжить ваш портрет и запечатлеть вас как новатора-администратора, а также распределителя кредитов. Тюрьма и ссылка по вас плачет, журнал, разумеется. Музей революции по вас плачет, — оригинал туда — оторвут с руками!».
«Тюрьма и ссылка» — это журнал, издаваемый обществом бывших политкаторжан и ссыльно-переселенцев с 1921 по 1935 год. В нем печатался материал о русских революционерах, причем не только о большевиках, о ярких и значимых событиях русского революционного движения. Так что Победоносиков вполне мог стать героем одной из публикаций журнала. Это же касается и Музея революции. Его открыли в Москве в 1924 году. Портрет Победоносикова действительно мог быть в экспозиции музея. Слова Бельведонского не кажутся его визави льстивыми пустышками, Победоносиков понимает, что это вполне реально.
Отсюда же можно вычислить примерный возраст Победоносикова. Пусть ему в 1903 году исполнилось 20 лет (меньше вряд ли, несколько больше вполне возможно), тогда в 1928 году ему уже было не меньше 45 лет. Это минимальная планка. Намного больше тоже вряд ли. Его никто не называет стариком, ведет себя в пьесе он как полный сил мужчина, интересуется женским полом. Так что, скорее всего, ему примерно 45—55 лет.
Далее. Заслуги Победоносикова не завершаются его впечатляющим партстажем. Он еще долго остается смелым, мужественным человеком, который не боится трудностей и стремится быть в первых рядах активных борцов за новую счастливую жизнь. Мы не знаем подробностей о его участии в Гражданской войне, но мы знаем один эпизод, который он упоминает в разговоре с Полей: «Сейчас не то время, когда достаточно было идти в разведку рядом и спать под одной шинелью». Получается, что Победоносиков не отсиживался по тылам, прикрываясь своим партстажем. Он не только был на фронте, он ходил в разведку. Возможно, что он служил в кавалерии. На это намекают его слова Бель-ведонскому по поводу своего предполагаемого портрета: «Я сяду здесь, за письменным столом, но ты изобрази меня ретроспективно, т. е. как будто бы на лошади». Ретроспективно, т. е. как это было в прошлом. В его славном боевом прошлом. Смелый, не избалованный жизнью человек.
Что же с ним произошло?
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на Победоносикова — руководителя крупного учреждения. Что мы видим? Перед нами эрудированный советский руководитель. Он может с ходу диктовать текст выступления, причем по любому поводу. То, что он диктует секретарше, в пьесе, конечно, утрировано, но текст связный, с необходимым для случая пафосом.
Победоносиков знаком с литературой и совсем неплохо для революционера-подпольщика. Вот что, например, он говорит в пьесе: «Итак, товарищи, помните, что Лев Толстой — величайший и незабвенный художник пера. Его наследие прошлого блещет нам на грани двух миров, как большая художественная звезда, как целое созвездие, как самое большое из больших созвездий — Большая медведица… Даже Лев Толстой, даже эта величайшая медведица пера, если бы ей удалось взглянуть на наши достижения в виде вышеупомянутого трамвая, даже она заявила бы перед лицом мирового империализма: „Не могу молчать. Вот они, красные плоды всеобщего и обязательного просвещения“».
«Не могу молчать» — одна из ярких политических статей Л. Н. Толстого, написанная им в 1909 году и посвященная смертной казни, которая в России при П. А. Столыпине стала чуть ли не обыденным явлением. Побе-доносиков знает эту статью. «Красные плоды всеобщего и обязательного просвещения» — это пьеса Л. Н. Толстого «Плоды просвещения», Победоносиков знает и ее. Знаком ему и Байрон. А в 1928 году у Байрона действительно был юбилей — 140 лет со дня рождения. Помнит он, хоть и смутно, строки Лермонтова: «После разных заседаний — нам не радость, не печаль, Нам в грядущем нет желаний, нам, тарам, тарам, не жаль...». Знает он и книгу О. Вейнингера «Пол и характер».
Есть и пробелы, причем с разных сторон. Победоносикову неизвестен Микеланджело, он не читал Франца Меринга и Людвига Фейербаха, но вопрос: а кто их читал? Было бы странно ожидать от него энциклопедичности знаний. Как разъяснил В. В. Маяковский: «Мы диалектику учили не по Гегелю».
К сожалению, имеющийся у Победоноси-кова культурный багаж почти ничего не говорит о его образовании и социальном происхождении. Не обязательно было родиться в состоятельной семье и получить гимназическое образование, чтобы знать многие факты культуры. Как пример приведем И. М. Варей-киса. Еще находясь в должности председателя губкома РКП(б) в 1918 году в Симбирске и будучи всего 24 лет от роду, он имел неплохой культурный кругозор, о чем можно судить по его статьям и выступлениям того времени. А закончил он ремесленное училище и происходил из семьи рабочего. Также и Победоно-сиков, который вполне мог быть выходцем из социальных низов, но мог происходить из состоятельной семьи и иметь более основательное образование: гимназию или реальное училище.
У Победоносикова не только безупречный партстаж, но и вся партийная биография. Он ни разу не отступал от генеральной линии партии, а возможности были: левые коммунисты, группа демократического централизма, рабочая оппозиция, новая оппозиция, объединенная троцкистско-зиновьевская оппозиция, а также поддержка Л. Д. Троцкого по разным вопросам и нахождение в числе подписантов различных троцкистских платформ, открытых писем в ЦК, заявлений и пр. Такая непоколебимая позиция Победоносикова была еще одной важной точкой опоры его служебной карьеры. Пришедшее к власти в СССР к 1928 году сталинское руководство знало, что на него можно положиться. В 1928 году правого уклона еще не было, поэтому актуальной оставалась левая оппозиция троцкистов и зиновьевцев. Как раз за год до написания пьесы оппозиционеры устроили свои самые значимые акции — альтернативные демонстрации 7 ноября 1927 года в Москве и Ленинграде к 10-летию Октябрьской революции. Демонстрации были разогнаны, демонстранты избиты, лидеры оппозиции исключены из партии и сосланы (Л. Д. Троцкий — в Алма-Ату, Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев — в Калугу и пр.), но, что называется, осадочек остался. Поэтому горделивые слова Победо-носикова «не загибаю влево» имели большое политическое значение в те годы.
Хорошо ли Победоносиков руководит своим учреждением? Вопрос не такой простой, потому что могут быть разные критерии этой хорошести. Хорошо руководить — это может означать приносить пользу советскому обществу, прямо или опосредованно делать жизнь людей лучше, но может означать и совсем другое. Если взять логику бюрократической системы, то хорошо — это значит укрепление и расширение данной бюрократической единицы, рациональное распределение ролей внутри нее, порядок в бумагах, быстрое реагирование на указания сверху и отправка наверх позитивных отчетов. Чем занимается данная система — совершенно не важно, нужна для общества ее деятельность или нет — вопрос настолько несущественный, что никому не приходит в голову. Поэтому — шестеренки исправно крутятся, а что они приводят в движение и приводят ли что-то — не важно.
С этой точки зрения Победоносиков — образцовый руководитель, так же как и руководимое им учреждение. В этом Победоноси-ков и такие же бюрократы, как он, были абсолютно уверены. Вот фрагмент из пьесы:
«Победоносиков
Действия? Взять что-нибудь образцовое, например, наше учреждение, в котором я работаю, или меня, например...
Иван Иванович
Да, да, да! Вы пойдите в его учреждение. Директивы выполняются, циркуляры проводятся, рационализация налаживается, бумаги годами лежат в полном порядке. Для прошений, жалоб и отношений — конвейер. Настоящий уголок социализма».
Поэтому Победоносиков рассуждает так: мне было поручено руководить учреждением по управлению согласованием и обеспечивать его бесперебойную деятельность, так я это делаю. Нужна ли эта деятельность — это не моя компетенция. Решения начальства не обсуждаются и тем более не осуждаются. Самостоятельность и свое мнение являются преступлением перед бюрократической системой.
«Победоносиков (к Оптимистенко)
Накрути хвост вертушке. Справься там, знаешь у кого, возможная ли эта вещь, сообразно ли это с партэтикой и мыслимо ли безбожнику верить в такие сверхъестественные явления».
Победоносикову совершенно безразлично, каков будет ответ. Если скажут, что да, возможно и мыслимо, то он будет верить в сверхъестественные явления, если скажут, что нет, то не будет. В СССР к 1928 году сло- жилась идеальная бюрократическая система государственного управления, где Победоно-сиков — ее идеальная шестеренка, и таких победоносиковых было очень и очень много, подавляющее большинство. Работу Победо-носикова оценивают такие же победоносико-вы, от них зависит его дальнейшая служебная карьера. Вот они:
«Победоносиков
Внизу живет Козляковский, он может передать Павлу Петровичу, а тот знаком домами с Семеном Афанасьичем».
В общем-то, ничего не изменилось. Так и слышится: «Что будет говорить княгиня Марья Алексевна?». Советская бюрократия и генетически, и типологически была прямой преемницей бюрократии петербургской империи и московского государства. Изменилось только внешнее, и Победоносиков — это тот же Фамусов, только в галифе, и дома у него вместо икон портрет Маркса. Об этом сам В. В. Маяковский говорит в стихотворении с характерным названием «О дряни», описывая советских чиновников:
Со всех необъятных российских нив, с первого дня советского рождения стеклись они, наскоро оперенья переменив, и засели во все учреждения.
Намозолив от пятилетнего сидения зады, крепкие, как умывальники, живут и поныне тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.
Сколько раз они меняли «оперенья» хотя бы только в прошлом веке? Где они, те члены КПСС, сидевшие в «уютных кабинетах»? Что с ними стало после того, как не стало КПСС и СССР?
Вот как характеризует себя сам Победо-носиков: «Я зато не пью, не курю, не даю «на чай», не опаздываю, не... (наклоняется к уху), не предаюсь излишествам, не покладаю рук... Директивы провожу, резолюции подшиваю, связь налаживаю, партвзносы плачу́, партмаксимум получаю, подписи ставлю, печать прикладываю... Ну, просто уголок социализма».
Насколько значимо для системы учреждение Победоносикова? Об этом можно судить по тому, что у него есть вертушка. Вот какое ей дается определение: «“Вертушка” — краткое разговорное название закрытой системы партийной и правительственной телефонной связи в СССР. Наличие “вертушки” в кабинете руководителя было важным статусным атрибутом принадлежности к высшему рангу должностей советской номенклатуры». Вертушки появились по инициативе В. И. Ленина в 1922 году, и число абонентов тогда составило 300 номеров. К 1928 году пользователей вертушки, конечно, стало больше, но число абонентов было очень ограниченным. Среди них и Победоносиков.
Таким образом, мы еще раз убеждаемся в высоком положении Победоносикова, который (что доказывается наличием «вертушки») входил в высший ранг советской номенклатуры.
Итак, что же произошло с Победоносико-вым, что он превратился в махрового бюрократа, совершенно равнодушного к людям, и в этой равнодушности жестокого. Причины носят как объективный, так и субъективный характер.
Он, став руководителем, эволюционировал вместе с той системой управления, частью которой отныне являлся. Распространение на всё управление Советской России бюрократических методов шло с самого верха. В. И. Ленин, будучи стопроцентным этатистом, создавал систему единоначалия, иерархии, обезличенности, хотя сам же он часто сетовал на эти ее черты и призывал с ними бороться. Чем большую роль играло государство в жизни общества, тем больше требовалось чиновников, тем более важную роль играли их методы деятельности.
За 8 лет до событий «Бани» состоялся IX съезд РКП(б). В стране завершалась Гражданская война, из крупных врагов оставалось разбить укрепившегося в Крыму Врангеля. Казалось бы, Гражданская война должна была создать иную систему управления, которая требовала бы от работников инициативы, когда формальные рамки должностной деятельности не будут являться законом, когда количество управленцев должно быть не больше необходимого, когда самоорганизация масс станет играть важнейшую роль. Однако этого не произошло, так как это противоречило бы логике существования сформировавшейся бюрократической системы, которой не важно: война идет или нет войны.
Выступившие на съезде представители рабочей оппозиции и группы демократического централизма подвергли критике централизацию и бюрократизацию управления, уже превратившуюся в монстра к 1920 году, т. е. всего примерно через 3 года после Октябрьской революции.
Вот выступает А. С. Киселев: «Я хочу обратить внимание на вопрос о том, что наш партийный центр не проводил у нас всего того, что было возложено на него VIII съездом. В частности, это относится к дебатировавшемуся на VIII съезде вопросу о борьбе с бюрократизмом. Бюрократизм нас везде и всюду заел. Восьмой партийный съезд нашел следующий выход из этого: для того чтобы освежить эту затхлую атмосферу, необходимо орабочить те самые центры, которые слишком забиты канцелярским бюрократизмом. И вот если мы бросим взгляд в эту область, то заметим, что здесь у нас осталось почти все по-старому» [2, с. 60].
Вопрос о виновных в создании этой системы поднял В. Н. Максимовский: «В чем повинен ЦК, так это в бюрократическом централизме. В этом заключается суть дела; этот централизм здесь процветает со всеми его прелестями. Говорят, что рыба начинает вонять с головы. Партия сверху начинает поддаваться влиянию этого бюрократического централизма» [2, с. 49].
Резко выступил Т. В. Сапронов: «Зачем говорить о диктатуре пролетариата, о самодеятельности рабочих, — никакой самодеятельности нет! Вы и членов партии превращаете в послушный граммофон, у которых имеются заведующие, которые приказывают: иди и агитируй, а выбирать свой комитет, свой орган не имеют права. Я тогда задам вопрос т. Ленину: А кто же будет назначать ЦК? А впрочем, и здесь единоначалие. Тоже здесь единоначальника назначили. Очевидно, мы до этого не дойдем, а если дойдем, то революция будет проиграна» [2, с. 52]. К этой мысли о проигранной революции мы вернемся несколько позже.
Ораторы, защищающие ЦК и В. И. Ленина, соглашались с наличием бюрократической централизации, но стремились оправдаться тем, что ее существование вызвано объективными факторами, и здесь они были совершенно правы, о чем было сказано выше.
Вот выступает тогда сторонник ЦК, а в будущем троцкист Е. А. Преображенский: «Кажый работник на местах видит, что у нас все решительно обюрокрачивается. Это неизбежно. И я должен сказать т. Лутовинову, что я слышал очень много от профессионалистов, которые здесь в Москве бывали в Центральном совете профсоюзов, как они с грустью возвращались на места и говорили: мы думали, что, по крайней мере, там нет бюрократизма. Но картина та же. Обюрокрачивается все решительно, но нужно поставить вопрос: почему? Мы живем в состоянии гражданской войны, еще не законченной, и здесь обюрокрачивание целого ряда наших учреждений, не исключая и ЦК нашей партии, совершенно неизбежно, потому что работа, которую предстоит проделать, неизмеримо велика для тех сил, которые мы имеем. В этом отношении мы будем пробовать те или другие способы, которые смягчают зло, но разрешить его радикально нет возможности» [2, с. 67]. Все правильно, разрешить его не только радикально, а хоть как-то нет возможности. Все сокращения чиновников, партийные чистки вели к одному — к реваншу бюрократии и ее новым победам. «Неизмеримо великая работа», о которой говорил оратор, — это работа государства, в чем бы она ни заключалась, которая требовала все больше и больше чиновников, а значит, формализма и обезличенности.
Троцкий Л. Д., защищая ленинский ЦК, объяснял: «В области применения I трудовой армии на Урале я убедился, что вопрос с волокитой и бюрократизмом в области нашего хозяйства не сводится вовсе к борьбе с отдельными бюрократами, с бюрократическими навыками каких-либо спецов. Такое представление довольно широко распространено в нашей партии. Каждый очень охотно готов подмахнуть резолюцию о борьбе с волокитой и бюрократизмом. И сама эта борьба приняла довольно бюрократический характер. На самом деле вся беда заключается в том, что бюрократизм и волокита заложены в самой структуре наших учреждений. Мы убили вольный рынок, эксплуатацию, конкуренцию, спекуляцию. Но в то же время нет еще и того единого хозяйственного плана, который заменяет стихийную работу законов конкуренции» [2, с. 103—104]. Л. Д. Троцкий полно- стью был прав, заявив, что «бюрократизм и волокита заложены в самой структуре наших учреждений», но сказав «а», он не сказал «б», что поскольку структура учреждений, а это именно бюрократические учреждения, и будет таковой, и она не может быть иной, то советская система обречена на разрастание бюрократии. И также он прав, увязав бюрократизацию с тем, что «мы убили рынок».
Почему же был прав и Т. В. Сапронов, говоривший, что революция будет проиграна? Потому что, согласно доктрине К. Маркса и В. И. Ленина, прошедшая революция была пролетарской. Победив, она устанавливает диктатуру пролетариата, а через это идет переход к коммунизму. Следовательно, победивший класс, правящий класс — это рабочий класс, он управляет Советским государством. Эта теоретическая схема с первых недель существования Советского государства оказалась полной утопией. Власть оказалась у партийной и беспартийной бюрократии, т. е. у другого общественного класса, а это есть не что иное, как гибель пролетарской революции и пролетарской диктатуры.
Один из основоположников элитологии Р. Михельс писал: «Партия создается как средство достижения цели. Однако, став целью сама по себе, озабоченная своими собственными задачами, интересами, она отчуждается от того класса, который представляет». И это понятно, будучи системой, партия думала и будет думать прежде всего о себе, ибо главная забота системы — это она сама. Неудивительно, что данная партия позднее ничего не сделает для защиты того общественного строя, который был ее детищем, а члены партии составят большую часть политической элиты капиталистической России.
Но является ли бюрократия общественным классом? Понимание этого, как известно, пришло не сразу. Только в 1957 году М. Джи-лас написал книгу с говорящим названием «Новый класс», и имеющие уши услышали.
В последующий за 1920 годом период стало еще хуже. В 1926 году в своей последней речи Ф. Э. Дзержинский, тогда председатель ВСНХ, говорил: «А если вы посмотрите на весь наш аппарат, если вы посмотрите на всю нашу систему управления, если вы посмотрите на наш неслыханный бюрократизм, на нашу неслыханную возню со всевозмож- ными согласованиями, то от всего этого я прихожу прямо в ужас» [1, с. 347]. Ф. Э. Дзержинского было сложно напугать, но здесь перед ним оказалась гидра, у которой отрубаешь одну голову, а вырастают две.
Поучительно, что система сожрала всех упомянутых выше, кроме умершего от инфаркта Ф. Э. Дзержинского. Т. В. Сапронов, А. С. Киселев и Е. А. Преображенский будут расстреляны, Н. В. Максимовский умрет в ссылке от кровоизлияния в мозг (по официальной версии), Л. Д. Троцкий получит ледорубом по голове. Не зря Т. В. Сапронов, А. С. Киселев и Н. В. Максимовский выступали против этой системы, когда мало кто мог предположить степень ее равнодушной жестокости.
Система переформатировала попавших туда людей по нескольким направлениям.
После Октября 1917 года Победоносиков переходил в новый класс и в новую страту внутри этого класса. Он становился не просто чиновником, а частью политической элиты и, соответственно, должен был придерживаться корпоративных социальных норм. Одно из правил, которого должен придерживаться индивид, поднявшийся наверх в рамках поступательной вертикальной социальной мобильности, — это освободиться от своего прежнего окружения, что Победоносиков и делает. Таким отголоском прошлого для него была Поля, которая не вписывалась в новый социум, в новые стандарты и не давала ему выглядеть среди новых коллег вполне своим. Поэтому Победоносиков и говорит ей то, что должен был бы сказать человек, для которого карьера важнее прошлых связей:
«Победоносиков
Тебе, тебе нужно скрывать, скрывать твои бабьи мещанские, упадочные настроения, создавшие такой неравный брак. Ты вдумайся хотя бы перед лицом природы, на которую я еду. Вдумайся! Я — и ты! Я под- нялся вверх по умственной, служебной и по квартирной лестнице. Надо и тебе уметь самообразовываться и диалектически лавировать. А что я вижу в твоем лице? Пережиток прошлого, цепь старого быта!»
Для понимания и примера: жена Г. Е. Зиновьева З. И. Лилина в 1924—1926 гг. руководила Петроградским ГубОНО, Отделом социального воспитания и, кроме того, читала курсы истории партии и Коминтерна в Коммунистическом университете, состояла профессором и членом Совета института в Институте социального воспитания, а с 1925 года, после объединения всех педагогических вузов города, — в Педагогическом институте имени А. И. Герцена. Жена А. И. Рыкова Н. С. Маршак стояла во главе Управления охраны здоровья детей Наркомата здравоохранения РСФСР. И т. д.
Конечно, Победоносиков в партийно-бюрократической иерархии стоял ниже Зиновьева, Рыкова, Молотова, Кагановича и прочих, входивших в высший слой советского руководства, но он был где-то рядом, ниже, хотя недалеко. Поля совсем не вписывалась в критерии этого круга.
Форматирование могло пройти и не так. Если бы Победоносиков решил оставаться человеком, а не превращаться в обезличенный винтик системы, то она его просто-напросто извергла бы из своей среды, но Победоноси-ков сделал выбор в пользу карьеры и системы, от которой это зависело. Следовательно, личностные качества Победоносикова включали и те, что в период революционной борьбы были или совсем незаметны или не так бросались в глаза: самомнение, карьеризм, бездушие. Возможно, это были лишь семена этих свойств, которые система успешно взрастила в нем. Но в любом случае субъективные предпосылки для превращения в героя «Бани» у него имелись. Они и вознесли его тело и погубили его душу.