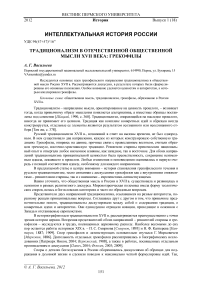Традиционализм в отечественной общественной мысли XVII в.: грекофилы
Автор: Васильева А.Г.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Интеллектуальная история России
Статья в выпуске: 1 (18), 2012 года.
Бесплатный доступ
Исследуются основные идеи грекофильского направления традиционализма в общественной мысли России XVII в. Рассматриваются дискуссии, в результате которых были сформулированы его основные положения. Особое внимание уделяется ценностям и авторитетам, к которым апеллировали грекофилы.
Общественная мысль, традиционализм, грекофилы, образование в России xvii в
Короткий адрес: https://sciup.org/147203371
IDR: 147203371 | УДК: 94(47+57)"16"
Текст научной статьи Традиционализм в отечественной общественной мысли XVII в.: грекофилы
XVII в.
Традиционализм – направление мысли, ориентированное на ценность прошлого, – возникает тогда, когда привычному образу мышления появляется альтернатива, а известные образцы поставлены под сомнение [ Шацкий, 1990, с. 360]. Традиционализм, опирающийся на наследие прошлого, никогда не принимает его целиком. Традиция как комплекс конкретных идей и образцов всегда конструируется, отдельные ее элементы являются результатом осознанного или неосознанного отбора [Там же, c. 378].
Русский традиционализм XVII в., возникший в ответ на вызовы времени, не был однородным. В нем существовало два направления, каждое из которых конструировало собственную традицию. Грекофилы, опираясь на давние, прочные связи с православным востоком, считали образцом греческую, восточно-христианскую традицию. Ревнители старины превозносили национальный опыт и отвергали любое иноземное влияние, как западное, так и восточное. Для обоих направлений традиционализма принципиальной ценностью была преемственность, сохранение неизменным идеала, лежавшего в прошлом. Любые изменения и нововведения оценивались в первую очередь с позиций соответствия идеалу, особенному для каждого направления.
В предлагаемой статье в центре внимания – история становления грекофильского течения в русском традиционализме, тесно связанная с дискуссиями грекофилов как с внутренними оппонентами – ревнителями старины, так и с внешними – европеистами-латинствующими.
Важно уточнить, что общественная мысль в России в XVII в. существовала и развивалась в основном в рамках религиозного дискурса. Мировоззренческая полемика имела форму теологических споров, велась в богословских категориях и часто по обрядовым вопросам.
Представители двух направлений традиционализма, ссылавшиеся на разные авторитеты, по-разному решали принципиальные вопросы. Соглашаясь друг с другом в том, что привычное предпочтительнее нового, традиционалисты дискутировали между собой о содержании традиции, о конкретных идеях и авторитетах. Они единодушно отрицали новации, приходящие в основном с Запада и отстаиваемые европеистами.
В историографии идеи традиционалистов XVII в. рассматриваются преимущественно с точки зрения истории церкви. Воззрения представителей обоих направлений – ревнителей старины и грекофилов – исследуются в трудах, посвященных церковному расколу. Наиболее весомыми до сих пор остаются работы историков XIX в. - П. С. Смирнова [ Смирнов , 1895] и Н. Ф. Каптерева [ Кап-терев , 1887; 1909]. Спор грекофилов и латинствующих основательно изучался Г. Мирковичем [ Миркович , 1886]. Деятельность отдельных грекофилов рассматривалась в биографических исследованиях [Патриарх Никон, 2004; Верюжский , 1908], а также в работах, посвященных отдельным произведениям и дискуссиям [ Панич , 2004; Фонкич , 2003; 2009].
Споры о деталях богослужения в России оборачивались дискуссиями об образцах для подражания в духовной жизни и служили поводом к максимально четкой формулировке идей. Так,
споры, развернувшиеся вокруг исправления церковных книг и обрядов в середине XVII в., и последовавший за ними церковный раскол, провели границу между основными направлениями традиционализма, а полемика о литургических проблемах в 1680-х гг. противопоставила традиционалистов-грекофилов и европеистов-латинствующих.
Ревнители старины и грекофилы обсуждали, нужно ли исправлять церковные книги и обряды, и если нужно, то по каким именно образцам. На первый план вышла проблема авторитета современных греков: ревнители старины отвергали все, созданное греками после взятия Константинополя турками в 1453 г., считая, что православие греков было «нарушено». Грекофилы полностью признавали современный греческий авторитет. Решение этого вопроса определяло конкретный состав конструируемой традиции. В рамках исследования идей грекофилов особенно интересны те аргументы, к которым прибегали сторонники исправления книг и обрядов по современным греческим образцам.
Состоятельность первых обрядовых изменений, произведенных патриархом Никоном в начале 1653 г., обсуждалась на церковном соборе в следующем году. Аргументируя необходимость исправлений, Никон сослался на Деяние Константинопольского собора 1593 г., утвердившего учреждение патриаршества в России. В акте говорилось о необходимости защищать церковь от нововведений: «…справедливость требует, чтобы и мы устраняли всякое нововведение в ограде церкви, зная, что нововведения всегда были причинами смут и разделения церквей» [Деяние..., 1865, с. 239].
После собора 1654 г. Никон отправил константинопольскому патриарху Паисию послание, в котором спрашивал об обрядовых различиях русской и греческой церквей. Ответ Паисия, зачитанный на соборе 1655 г., был представлен как легитимация действий Никона.
Наиболее последовательное обоснование необходимости исправлений и самое развернутое изложение аргументов в их пользу было представлено в предисловии к книге «Скрижаль» – «Слове отвещательном» патриарха Никона. Сравнив современные издания с предыдущими и выяснив, что многие книги «неслична и несогласна» [Патриарх Никон, 2004, с. 94], автор решил «познати же истину точию дверми Божественнаго писания, а не сам собою» [Там же, с. 95] и обратился к древним книгам: «Многия убо собра елико возмогох обрести древних харатейных преводов книги славенска языка и сербска. И неудовлихся еще к сему, но болшаго ради уверения, послах и во святую гору Афонскую, в Грецию греческих ради преводов церковных и четьих, еже бы исправити новыя нынешния печатныя книги, и рукописныя неисправленныя их же по желанию моему и полу-чих» [Там же].
Самым главным обрядовым различием двух церквей Никон счел двоеперстие «и первее убо о сем ко Вселенныя председателю, Святейшему Патриарху Паисию архиепископу Константиня града вопросителне писах с прочими главизнами церковных вин» [Там же, с. 95]. Патриарх Паисий якобы заверил Никона, что единственно верным является троеперстие. Кроме этого, автор обращался «к прилучившимся при нас в царствующем сем граде быти потреб своих ради Божия града Антиохии Патриарху Макарию, и Сербския земли града Пеккска Патриарху Гавриилу, и Никейска града митрополиту Григорию, и Молдавскому и Сучавскому митрополиту Гедиону» [Там же]. Перечисленные иерархи публично в присутствии царя и придворных прокляли сторонников двоеперстия, следующих творениям Феодорита: «А еже кто по Феодоритову писанию и ложному преданию творит, той проклят есть» [Там же].
Таким образом, в затруднительной ситуации установления истины патриарх Никон обратился не только к признанному в России авторитету древней греческой книжности, но и к авторитету других иерархов, признавая русскую церковь частью вселенского православия. Исправление русского обряда по современному греческому образцу представлялось возвращением к утраченному идеалу. Сомнения ревнителей старины, которые были сторонниками старого русского обряда, в том, что греки сами утратили этот изначальный идеал, не принимались во внимание.
Однако исследователи не уверены в состоятельности некоторых аргументов [Грамота..., 1881; Несколько слов..., 1881; Каптерев, 1909, с. 157, 159]. Сохранившаяся ответная грамота патриарха Паисия не имеет точной датировки, но ряд косвенных свидетельств (сопоставление времени пути, свидетельства о возвращении в Москву посланника с ответом на запрос и пр.) заставляет сомневаться в том, что на соборе 1655 г. была зачитана подлинная грамота. Кроме этого, ответная грамота не содержала однозначного одобрения реформаторских действий Никона [Грамота..., 1881].
Арсений Суханов, посланный на восток для покупки книг, с помощью которых якобы были произведены исправления, вернулся незадолго до собора 1655 г., и при подготовке одобренной этим собором новой редакции Служебника у справщиков попросту не было времени в полной мере воспользоваться доставленными книгами [ Каптерев , 1909, с. 159]. Тщательное исследование состава привезенных рукописей позволило сделать вывод, что целью Арсения Суханова было не собирание книг для исключительно литургической реформы, а создание фундаментальной разносторонней библиотеки [ Фонкич , 2003, с. 149].
В данном случае не так важно, когда на самом деле прибыла ответная грамота Паисия и каков был состав доставленной Арсением Сухановым библиотеки, а важен тот факт, что Никон апеллировал к современному греческому авторитету и древней греческой книжности вне зависимости от достоверности этих ссылок. Скорее всего, именно эти авторитеты были настолько велики, что исходящая от них легитимация стоила того, чтобы сфальсифицировать необходимые прецеденты.
В 1658 г. патриарх Никон, поссорившись с Алексеем Михайловичем, добровольно оставил патриарший престол. Никон оказался в очень двусмысленном положении: с одной стороны, он покинул патриарший престол, с другой – не представил формального отречения и настаивал на своем праве по-прежнему вмешиваться в церковные и государственные дела. В 1666–1667 гг. состоялось три церковных собора: первый был посвящен суду над старообрядцами, второй – разбору дела патриарха Никона, третий, Большой собор 1667 г., на котором присутствовали александрийский патриарх Паисий и антиохийский патриарх Макарий, подвел итог обоим.
Собор 1667 г. окончательно сформулировал отношение московских властей к старообрядцам и их идеям. В первую очередь было выражено мнение по ключевому для этого конфликта вопросу – как относиться к современной восточной церкви: «Сие наше соборное повеление и завещание ко всем чином православным предаем и повелеваем всем неизменно хранити и покорятися святый восточной церкви» [ Субботин , 1876, с. 218]. Тот, кто не покорится решению этого собора, будет проклят и предан анафеме .
Далее определялось отношение к тому, что было авторитетным для сторонников старого обряда. Собор 1667 г. отменил решения Стоглавого собора: «тую неправедную и безразсудную клятву Макариеву и того собора разрешаем и разрушаем, и той собор не в собор, и клятва не в клятву, но ни во что вменяем, яко же и не бысть» [Там же, с. 220]. Он также объявил неверными два авторитетных для старообрядцев текста: житие Евфросина Псковского («о еже писано в житии преподобного Евфросина, от сонного мечтания списателева, о сугубой аллилуйи, да никто тому верует» [Там же, с. 221]) и послание к митрополиту Геннадию о белом клобуке («да никто сему писанию веру иметь: зане лживо и неправо есть» [Там же, с. 236]). Отдельно была упомянута грамота патриарха Паисия, легитимирующая исправления («Епистолию патриарха Паисия святейшего патриарха вселенского о вещах церковных утвердиша» [Там же, с. 240]).
Деяния собора 1667 г. являются ярким примером конструирования традиции: грекофилы не просто включали или исключали те или иные компоненты из комплекса авторитетных образцов, они инициировали создание этих авторитетных источников.
В Деяниях собора 1667 г. затрагивалась еще одна проблема, которую ревнители старины и грекофилы решали совершенно по-разному, – проблема образования, учености. Ревнители относились к образованию с большой опаской, считая, что оно скорее отдаляет человека от истины, чем помогает ее постичь . Грекофилы заявляли, что образование необходимо для познания бога, а невежество – путь к гибели.
Одновременно невежество почти прямо называлось причиной раскола. Говоря о книге «Скрижаль», автор Деяний собора 1667 г. оговаривался, что читать ее нужно только людям образованным: «Невежди же аще будут прочитати, то неискуством их и неучением разум свой токмо будут потопляти и погибнут, яко же пострада и Никита поп, Лазарь, Аввакум и прочии невежди» [Там же, с. 239]. Позже патриарх Иоаким в «Поучении в нашествие варваров» писал, что новые исправленные книги напечатаны «советом и истинным разумом, и учением грамматических правил, яко всем есть разумно. А они ни оных словес силы, ни с чего сделаны, и како что исправлено бысть, не разумеют, и таким неуметным слепцом и невегласом писания божественных книг знати есть невозможно» [ Гаврилов , 1872, с. 4].
Тезис о невежестве старообрядцев, появившийся в документах XVII в., долгое время был основой точки зрения официальной церкви.
Следующим поводом для выражения взглядов грекофилов стал спор о времени «пресуществления святых даров». Мнение о том, в какой именно момент литургии хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми, лежит в основе одного из различий православной и католической церквей. Предпосылки спора исследователи [ Панич , 2004, с. 51; Миркович , 1886, с. 31–65] связывают с присоединением Украины к России в 1654 г.
Начало полемики было положено Епифанием Славинецким и Симеоном Полоцким, «хотя их прения не выходили за рамки академических бесед, очевидно, потому, что к тому времени полностью еще не оформился предмет спора и “разглагольства” о нем не стали повсеместными» [ Панич , 2004, с. 53]. Этот спор обострился с приездом в Москву братьев Лихудов в 1685 г. Начало литературной дискуссии связано с трактатом Сильвестра Медведева «Хлеб животный» [ Прозоровский , 1896, прил.], где выражалось мнение латинствующих. Ответом стали сочинение Евфимия Чудов-ского «Показание на подверг латинского мудрования» [Там же] и «Опровержение латинского учения о пресуществлении» [Там же]. Позже к литературной полемике присоединились братья Лихуды и Афанасий Холмогорский. Временем завершения бурного спора можно считать 1690 г., когда на церковном соборе были официально осуждены точка зрения латинствующих и Медведев как главный ее выразитель. Медведев был арестован в 1689 г. по обвинению в покушении на жизнь царя Петра и патриарха и был казнен через два года.
Развернутое изложение точки зрения грекофилов содержится в сборниках «Остен» Евфимия Чудовского [ Евфимий , инок , 2006] и «Щит веры» Афанасия Холмогорского [ Панич , 2004, прил.]. Теологическая дискуссия о деталях литургической практики по сути своей оказалась полемикой об образцах для подражания, только на этот раз выбор предстоял между греческим и латинским вариантом. Обсуждение превосходства образа мысли стало одновременно обсуждением преимуществ латинского или греческого языка и западного или восточного типа образования.
В споре с латинствующими грекофилы апеллировали к давности и непрерываемой преемственности, от апостолов через святых отцов к восточной и отождествляемой с нею русской церковью, которая противопоставлялась западной церкви с ее нововведениями: «Истинно же о сем, по разуму святыя восточныя церкве, что разглагольство учителей православных ко учеником их, не от себе самих (яко зде) разглагольствуемое, но от св. апостолов и св. вселенских синодов и иных многих святых учителей древних богословов словесы и разуменми свидетелствованное и утвержденное. Оное разглагольство (подобает) искренним сыновом святыя восточныя церкве прочитати и разумениям св. отцев последовати, а не без свидетелств святых отцев словес и писаний басносло-вимому сему разуму и разглаголству, чужду сущу св. матерее нашея и отцев святых, чуждаго бо сицевых гласа отбегати повелеваемся, и не всяким ветром учения влаятися повелевает св. Апостол и обноситися во лжи человеческой, яковая лжа зде последовно обретается» [ Прозоровский , 1896, с. 445].
Доказывая правильность того или иного обряда, грекофилы ссылались не только на древних святых отцов, но и на современных греческих иерархов. Поклоны необходимо «творити по обычаю и чину святыя восточныя Церкве, матери церквей, егда грецы благовременно покланяются и яко святейшии патриарси, бывши в царствующем граде Москве во днех благочестиваго царя, государя нашего и великаго князя Алексиа Михайловича, всея Великия, и Малыя, и Белыя России самодержца: Афанасий Петеларий, Константинопольский патриарх, … Паисий, Александрийский патриарх; Макарий, Антиохийский патриарх; Паисий, Иерусалимский патриарх. И инии премножай-шии архиерее, архимандрити, игумени, иерее, монаси и простолюдини, греции и серби, мунтяни и ивери, и инии восточного благочестия православнии народи, единовернии и купночиннии нам, … молятся» [ Панич , 2004, с. 309].
Из богословской дискуссии о деталях литургической практики выделяется отдельная дискуссия о языке как основе образования. В контексте теологической полемики язык, которому человек учился (т.е. источник, откуда он черпал свои идеи), являлся одним из основных признаков, определяющих его «православность». Так в «Щите веры» Симеон Полоцкий характеризовался как «человек и учен, и добронравен» но «предувещан от иезуитов», «к тому же книгы их латинские токмо чтяше» [Там же, с. 229]. Но «у иезуитов бо кому учившихся, наипаче токмо латински, без греческо- го, не можно бытии православну весьма» [Там же]. Наоборот, «еллинский же диалект глубокий и пространный кладязь есть» [Прозоровский, 1896, с. 355].
Спор о языке как основе образования обострился в первой половине 1680-х гг., накануне приезда в Москву братьев Лихудов. Речь шла об открытии в Москве высшей школы, дискуссия велась о принципах ее работы и в первую очередь о том, какой язык будет основным – латынь или греческий.
В 1685 г. Медведев передал царевне Софье Алексеевне «Привилегию на Академию». Это был проект создания высшей школы, облеченной кроме образовательных функций полномочиями цензуры. Хлопоты Медведева об организации высшего учебного заведения в 1684–1685 гг. вызвали реакцию партии грекофилов [ Фонкич , 2009]. За короткое время было создано два специальных полемических труда, посвященных проблеме выбора языка: «Рассуждение, учитися ли нам полезнее грамматики, риторики, философии, и теологии, и стихотворному художеству, и оттуду познавати божественная писания или, не учася сим хитростем, в простоте Богу угождати и от чтения разум святых писаний познавати? И [о том,] что лучше российским людем учитися греческаго языка, а не латинскаго» [Там же, прил.] и «Довод вкратце, яко учения и язык еллиногреческий наипаче нужно потребный, нежели латинской язык и учения и чем ползует славенскому народу» [Там же].
«Рассуждение…» начинается с констатации: «Яко простота сугуба есть, ова незлобие глаголется, еже есть добродетель терпения и непамятозлобия и немщения обидящим, ова же невежество, рекше неучение, в ем же содержится невежество божиего закона, еже злоба есть преглубока» [ Фон-кич , 2009, с. 244]. Признавая необходимость учения как такового, автор ставил целью доказать, что греческий язык «и учение того знати потребнейшее есть и полезншее по многим винам» [Там же, с. 245]. Для того чтобы доказать превосходство греческого над латынью он прибегал к разнообразным аргументам, прежде всего к аргументам сугубо грамматическим: сравнивались греческий, латинский и славянский алфавиты («Овча подобно есть своей матери всячески по виду и нраву, яко славенская письмена греческим подобна суть») [Там же, с. 246], затем присущие трем языкам «части грамматики». Автор рассматривал, как отдельная грамматическая категория может изменить смысл высказывания в разных языках, и делал вывод, что «гречески же учайся вся будет тонкочастно знати, и право богословствити» [Там же, с. 249], как и святые отца на вселенских соборах. Латинский же язык «скуден и убог по себе самому, и за скудость свою овогда употребляет еллинская речения и имена, овогда же иными реченми изменяет». Латынь, по его мнению, по своей природе «далече отсутствует истины» [Там же, с. 250].
Далее шло рассуждение о том, что греческий и славянский связаны не только сходством грамматики, но и историей взаимоотношений церквей: «Отвсюду благословение дадеся явленно яко и от Бога и от архиереев, еже учитися славяном по гречески» [Там же, с. 259]. Автор ссылался на грамоты восточных патриархов, «повелеша учитися славянам греческому языку», на акт собора 1593 г., «еже бытии в Москве патриарху, написаша бытии патриарху московскому с ними во всем согласну и купночинну. Согласие же и купночинность инако како не имать бытии, точию от учения греческаго купно и славенского» [Там же].
Язык для автора «Рассуждения…» являлся неотъемлемой частью вероучения. Латынь плоха не столько потому, что отличается от греческого по строению языка, сколько потому, что неизбежно несет с собой ересь. Если в Москве начнет распространяться «латинское учение», «тогда что будет? Ничто ино, точию окоптелый чистителного огня дымом латинского смышления зачнется куколь и родит любопрения, потом (пощади Боже) отступление от истины» [Там же, с. 260].
Греческий язык ведет к спасению: «Аще же народ великороссийский будет учитися гре-кославенски и чести книги оныя, всех сих предреченных бед избегнут» [Там же]. В этом случае не только «истинно ученици Христовы будут, и здравии и тверди и непозыблени от прираждения инославных пребудут в православной вере» [Там же], но и «народи вси окружнии, сущии православия восточного, Богу возблагодарят и царскому величеству приклонятся» [Там же].
«Довод вкратце…» доказывал, что греческий язык является основой всех наук. Автор ссылался на западные источники («и свидетели тому не только греческие и славянские историки, но и самие латини» [Фонкич, 2009, с. 264] – Барония, Антонио Поссевино и др. На греческом написаны Библия и творения святых отцов: «При том и академии греческие и во многих странах и греческий язык является в немецком и францужском языке» [Там же, с. 265]. Кроме этого, греческий язык до сих пор изучался вместе с латинским и признавался важнейшим: «сами латини во всех своих ака- демиях и по ве время, яко основания себе предлагают и вкупе учатся греческому и латинскому языку, зане иное основание, кроме греков во всех свободных учениях, хотя и много трудилися, вымыс-лити не могут» [Там же, с. 266]. Тем не менее «подобает наипаче учитися гречески, понеже не токмо тем языком вредится православная вера, яко латинским, но и зело исправляется, и учити купно со славенским, яко да времение и словенский язык, который пребогат есть, очистился и мед иных ученых языков сочетался, а по греческом учении легче хотящему невредително учитися и латинскому, а в первых латинскому учитися велие опасение» [Там же, с. 267].
Язык для грекофилов являлся неотъемлемой частью вероучения и мог вести к спасению или гибели. Изучение греческого служило залогом преемственности, сохранения единства с восточным православием.
Следование греческим образцам само по себе было для грекофилов традицией. Справедливость копирования именно этих образцов они обосновывали давностью, традиционностью такого рода связей и лишь затем обращались к конкретным идеям и аргументам.
В отечественной общественной мысли XVII в., в традиционалистском сегменте поля производства идей, шла борьба за лидерство и символический капитал, дававший возможность навязывать собственные идеи своим оппонентам. В этом противостоянии временную победу одержали грекофилы, именно их идеи получили наибольшее распространение, однако к началу XVIII в. они утратили свою актуальность .
Список литературы Традиционализм в отечественной общественной мысли XVII в.: грекофилы
- Верюжский В. Афанасий, архиепископ Холмогорский. Его жизнь и труды в связи с историей холмогорской епархии за первыя 20 лет ея существования и вообще русской церкви в конце XVII века. СПб., 1908.
- Гаврилов А. Литературные труды патриарха Иоакима. М., 1872.
- Грамота Константинопольского патриарха Паисия I к Московскому патриарху Никону//Христианское чтение. 1881. № 3, 4.
- Деяние Константинопольского собора, 1593 года, которым утверждено патриаршество в России//Тр. Киев. Духовной академии. Киев, 1865. Кн. 4.
- Евфимий, инок. Остен: памятник русской духовной письменности XVII века. СПб., 2006.
- Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Время патриаршества Иосифа. М., 1887.
- Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909. Т. 1.
- Миркович Г. О времени пресуществления святых даров: Спор, бывший в Москве во второй половине XVII века. Вильна, 1886.
- Несколько слов по поводу первого издания грамоты Константинопольского патриарха Паисия I к Московскому патриарху Никону//Христианское чтение. 1881. № 9, 10.
- Панич Т. В. Книга «Щит веры» в историко-литературном контексте конца XVII века. Новосибирск, 2004.
- Патриарх Никон. Труды. М., 2004.
- Прозоровский А. Сильвестр Медведев//Чтения в императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском университете. 1896. Кн. 2-4.
- Смирнов П. С. История русского раскола старообрядства. СПб., 1895.
- Субботин Н. И. Материалы для истории раскола за первое время его существования. М., 1876. Т. 2.
- Фонкич Б. Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. М., 2009.
- Фонкич Б. Л. Греческие рукописи и документы в России в XIV -начале XVIII в. М., 2003.
- Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990.