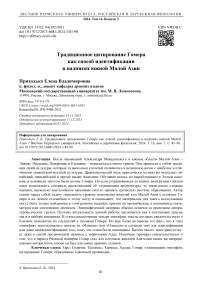Традиционное цитирование Гомера как способ идентификации в надписях Южной Малой Азии
Автор: Приходько Е.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
После завоеваний Александра Македонского в южные области Малой Азии - Ликию, Писидию, Памфилию и Киликию - переселилось много греков. Они принесли с собой традиции своей культуры, которые за несколько столетий сплавились в неделимое целое с наиболее устойчивыми элементами местной культуры. Древнегреческий язык практически полностью вытеснил ликийский, писидийский и другие языки Анатолии. Обучение велось по выработанным в Элладе канонам, и основным текстом были поэмы Гомера. Но если сохранившиеся до наших дней руины городов дают возможность составить представление об эллинизации архитектуры, то значительно сложнее оценить, насколько анатолийское население смогло принять греческую систему образования. Автор ставит перед собой задачу определить уровень знакомства жителей юга Малой Азии с поэмами Гомера и их личное отношение к этому поэту и показывает, что материалом для такого исследования могут быть только найденные в этом регионе надписи, причем не прозаические, а написанные гекзаметром или элегическим дистихом. Эпиграфический материал обычно остается за пределами литературоведческих трудов. Поэтому актуальность данной работы заключается как в постановке задачи, так и в выборе материала. В статье рассмотрены четыре эпитафии, тексты которых свидетельствует о близком знакомстве их создателей с поэмами Гомера. Но еще более интересен тот факт, что в этих эпитафиях использовались цитаты из «Илиады» или «Одиссеи» и служили они для идентификации или даже самоидентификации того, кому эти стихи были посвящены. Цитата такого типа присутствует даже в одной прозаической надписи с территории Адад. Подобные примеры свидетельствуют о том, что в период Римской империи Гомер стал для потомков жителей Анатолии таким же непререкаемым авторитетом, каким он был для самих древних эллинов.
Тарс, сидимы, тельмесс, термесс, адады, гомер, эллинизация, эпитафия, цитирование гомера, образование в римской провинции
Короткий адрес: https://sciup.org/147246114
IDR: 147246114 | УДК: 821.14’02: | DOI: 10.17072/2073-6681-2024-3-81-90
Текст научной статьи Традиционное цитирование Гомера как способ идентификации в надписях Южной Малой Азии
Гомер в греческом образованиии эллинизация южной Малой Азии
Среди античных авторов Гомер всегда занимал высшую позицию: он был самым родным, самым авторитетным, самым незаменимым, он был «неоспоримым воплощением греческой культуры» [Horsley 2000: 57]. По поэмам Гомера древние эллины учили своих детей читать и писать, и каждый писатель стремился украсить свое сочинение стихами из «Илиады» или «Одиссеи». Эти цитаты были настолько хорошо узнаваемы, что даже не нуждались в отсылках к их источнику. Жизнь древнего грека с самого детства проходила в сопровождении Гомера, и это воспринималось не просто как норма, но как неотъемлемая составляющая самой жизни. Поэтому когда эллины основывали колонии в землях других народов, они приносили с собой туда вместе со своими обычаями и верованиями также и своего бессмертного Гомера.
В 334–333 гг. до н. э. Александр Македонский прошел победоносным маршем через Малую Азию, что положило начало серьезным изменениям в жизни коренных народов этого региона. Вслед за македонской армией сюда хлынули потоки греческих переселенцев, и начался постепенный процесс эллинизации покоренных территорий. Уверенные в превосходстве своей культуры, эллины везде устанавливали привычные для них социальные и политические институты, а также вводили почитание своих богов. К местному населению они относились достаточно спокойно и скорее стремились переформатировать его под свои жизненные принципы, нежели уничтожить или прогнать с земли предков. Единственным, что подверглось жесткому и безжалостному устранению, оказались ликий-ский, писидийский и другие анатолийские языки. Языком общения был официально объявлен древнегреческий, и его предшественники были обречены. Живя бок о бок с народами Анатолии и нередко заключая смешанные браки, эллины незаметно и сами заимствовали у них некоторые обычаи и религиозные обряды.
В результате этой постепенной ассимиляции к периоду Римской империи в Ликии, Писидии, Памфилии и соседних с ними областях сложился весьма интересный тип общества: в его жизни, безусловно, превалировали устои эллинской культуры, но при этом они вобрали в себя достаточно много автохтонных элементов, соединившись с ними в неделимое целое. Эти люди говорили на древнегреческом языке, но часто называли своих детей именами далеких предков: надписи сообщают нам о Троилах, Трокондах, Осбарах, Обримотах, Кбедасиях и их женах Нанелидах, Коркенах, Армастах, Моланисах, Оа и т. д. Городская архитектура следовала греческим канонам: здесь были построены театры, одеоны, булевтерии, храмы богов, гимнасии, бани, портики с колоннами, были обустроены мощенные камнями улицы и агора, – но при этом в погребальной архитектуре в каждой области сохранялись какие-то местные черты, и в одном некрополе нередко соседствовали греческие гирлянды и анатолийские двери, писидийские, например, щиты и римские портреты. В пантеоне богов господствовали эллинские боги, но их изображения следовали местным образцам: так, Аполлон, которого греки обычно изображали стоящим в полный рост и обнаженным, на обетных стелах из святилища в Перминунте в Писи-дии был представлен в виде восседающего на коне всадника [Delemen 1999: 43–46, 167–169 № 293–297]. На рельефе в святилище Педнелис-са, тоже в Писидии, его изображение в хитоне, плаще и сапогах повторяло иконографию Аполлона Сидетского, известную по серебряным ста-терам из Сиды IV в. до н. э. [Işın 2014: 89–90]. В Гиераполе во Фригии была найдена статуя Аполлона Карейского III в. н. э., который был одет в хитон, плащ и сандалии и предположительно держал в руке обоюдоострый топор [Ritti 2006: 172–173]. В городах и возле них функционировали крупные святилища богов, а в сельской местности по-прежнему устраивались скальные обетные святилища под открытым небом, среди хозяев которых наравне с Гераклом, Аресом и Диоскурами были анатолийские божества Какасб [Delemen 1999: 5–38], Мен [Labarre 2009], Масес [Delemen 1999: 23–24, 163–164 № 280–285], Су-мендис [Marksteiner et al. 2007: 253–277] и Триада Суровых–Справедливых богов [Приходько 2023].
Если сохранившиеся до наших дней многочисленные руины городов, святилищ и крепостей дают нам возможность составить представление об уровне эллинизации архитектуры и градостроительства, то определить, насколько была воспринята анатолийским населением греческая система образования, оказывается значительно сложнее. Понятно, что никакая сила не смогла бы заставить эллинов устранить из процесса обучения поэмы Гомера, и получавшие всестороннее образование дети городских элит учили и знали «Илиаду» и «Одиссею». Это знание помогало им в дальнейшем в повышении социального статуса: умение процитировать Гомера говорило о серьезном уровне образованности, а также демонстрировало «принадлежность к более престижной культуре» [Horsley 2000: 57]. Но возникает вопрос: стал ли Гомер для них столь же родным и незаменимым, каким он был для самих эллинов? Пользовались ли они его стихами только для самоутверждения или в этом проявлялся душевный порыв и искренняя потребность приобщиться к величию его авторитета?
В поисках ответа на этот вопрос мы обратились к эпиграфическому материалу и в первую очередь к надписям, написанным гекзаметром и элегическим дистихом. Собственно, поэзия едва ли относилась к тем жанрам текстов, которые было принято вырезать на камне. Подавляющее большинство эпиграфических памятников – это требующие надежной фиксации документы, общественные или личные: законы, декреты, посвятительные, погребальные, обетные надписи, – и их обычно составляли в строгой, лаконичной прозе. Однако у каждого правила бывают исключения, и когда человек заказывал вырезать на постаменте статуи или на гробнице надпись личного характера, он мог предоставить резчику вместо традиционной прозы небольшое стихотворение. Автором такого стихотворения мог быть как сам заказчик, так и кто-то из его окружения. Такие люди не были профессиональными поэтами, их имена, как правило, уже преданы забвению, но именно анализ текстов, написанных обычными горожанами, дает нам возможность оценить уровень их образованности, их знание поэм Гомера и умение оперировать заимствованным из них материалом, тем более что отсутствие собственного поэтического дарования как раз и побуждало к использованию эпических формул и цитат. Поэтические произведения, сохранившиеся в эпиграфических памятниках, как правило, остаются за пределами работ по древнегреческой литературе. Поэтому актуальность предпринятого исследования определяется как самой постановкой вопроса, так и материалом, на котором оно проводится.
В статье, посвященной поэзии жителей Тер-месса1, нами уже были подробно рассмотрены три поэтические эпитафии (одной из них мы коснемся и в данной работе) и было показано, что почти 44 % текста этих эпитафий составлено из слов, которые либо принадлежали эпической традиции, либо входили в состав формулы, либо стояли в свойственной эпосу грамматической форме. Теперь же, как уже было сказано, попробуем найти примеры, где цитирование текста Гомера говорит об особом личном отношении к этому поэту.
Эпитафия императору Юлиану
Отступнику в Тарсе
Текст первой надписи сохранился только в произведениях авторов XI–XII вв.: Геогрий Кедрин (Vol. I, p. 539 Bekker (CSHB)) и Иоанн Зона-ра (Epit. Hist. p. 68 Büttner–Wobst (CSHB)) цитируют эпитафию, которая была вырезана на гробнице императора Юлиана Отступника в Тарсе [Merkelbach, Stauber 2002: 212, 19/13/03]:
Κύδνῳ ἐπ’ ἀργυρόεντι ἀπ’ Εὐφρήταο ῥοάων
Περσίδος ἐκ γαίης ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ κινήσας στρατιὴν τόδ’ Ἰουλιανὸς λάχε σῆμα, ἀμφότερον βασιλεύς τ’ ἀγαθὸς κρατερός τ’ αἰχμητής, –
«Войско ведя из Персиды земель от потоков Евфрата, У серебристого Кидна по жребию эту гробницу, Пав, получил Юлиан – незаконченным дело осталось. Равно он был императором славным и воином сильным»2.
26 июня 363 г. во время похода в Персию император Флавий Клавдий Юлиан, или Юлиан Отступник, был смертельно ранен в битве в окрестностях Маранги. Его тело было сначала похоронено в Тарсе в Киликии, а затем перенесено в Константинополь. Написанная для погребения в Тарсе эпитафия, скорее всего, должна датироваться тем же 363 г. Автор этих гекзаметрических стихов активно опирался на эпическую традицию. В первом стихе эпитетом реки Кидн было выбрано прилагательное ἀργυρόεις «серебристый», образованное по тому же словообразовательному типу, что и целый ряд прилагательных в поэмах Гомера: κητώεις ‘изобилующий ущельями’ (Il. II 581; Od. IV 1), φοινήεις ‘кроваво-красный’ (Il. XII 202; XII 220), ὀκριόεις ‘имеющий острые углы’ (Il. IV 518; VIII 327; XII 380;
Od. IX 499), ὀκρυόεις ‘леденящий душу, ужасный’ (Il. VI 344; IX 64), αἱματόεις ‘окровавленный, кровопролитный’ (Il. II 267; V 82; VII 425; IX 326; IX 650 etc.), ἰχθυόεις ‘обильный рыбой’ (Il. IX 4; IX 360; XVI 746; XIX 378; XX 392; Od. III 177; IV 381 etc.), δενδρήεις ‘лесистый’ (Od. I 51; IX 200), ἀστερόεις ‘звездный’ (Il. IV 44; V 769; VI 108; VIII 46; XV 371 etc.), πτερόεις ‘крылатый’ (Il. I 201; II 7; III 155; IV 69; IV 92 etc.), σκιόεις ‘тенистый’ (Il. I 157; V 525; XI 63; XII 157; Od. I 365 etc), σιγαλόεις ‘сверкающий’ (Il. V 226; V 328; VIII 116; VIII 137; XI 128 etc.), νιφόεις ‘снежный’ (Il. XIII 754; XIV 227; XVIII 616; XX 385; Od. XIX 338), δακρυόεις ‘плачущий, вызывающий слезы’ (Il. V 737; VI 455; VI 484; VIII 388; XI 601 etc.) и еще около четырех десятков слов. Само ἀργυρόεις впервые появляется в
«Алексифармака» Никандра Колофонского (54) и затем до разбираемой эпитафии больше нигде не зафиксировано. В использовании этого слова реализовались одновременно и желание автора украсить свое произведение очень редким словом, и его стремление творить в русле эпической традиции. Также начиная с Никандра Колофонского (245) и затем у Оппиана в «Кинегетике» (I 276; IV 112), у Дионисия Периэгета (977, 1003), в орфической «Литике» (263) и еще в нескольких произведениях встречается эпическая форма родительного падежа Εὐφρήταο, в то время как тоже эпическая форма родительного падежа множественного числа слова ‘поток’ ῥοάων семь раз использована Гомером, причем в шести из этих случаев она так же, как и в эпитафии Юлиану, занимает исход стиха (Il. III 5; IV 91; VI 4; VIII 560; XIX 1; Od. XXII 197; ср. Od. X 529).
Во втором стихе автор эпитафии употребил гомеровскую форму слова ‘земля’ γαίης, которая в «Илиаде» и «Одиссее» в общей сложности встречается в пятидесяти контекстах (Il. I 270; III 49; V 310; V 545; V 769 etc.), в том числе и с предлогом ἐκ (Od. VI 167; X 303). Но значительно интереснее словосочетание ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ «при незавершенном деле», представляющее собой прямую цитату из Гомера. И тут важно подчеркнуть, что это выражение не является устойчивой формулой и у самого Гомера присутствует только в одном стихе (Il. IV 175), а значит, мы вправе говорить именно о цитировании, а не о заимствовании эпической формулы. Кстати, кроме автора эпитафии это выражение (если не считать комментаторов Гомера) цитировал лишь Плутарх, причем только один раз (Ages. 15, 5), что говорит о более чем скромной популярности этого стиха.
Третий стих по своим смысловым словосочетаниям наиболее близок прозе. Выражение κινεῖν στρατιήν / στρατιάν «двинуть войско» с разными формами глагола κινέω, хотя и зафиксировано в приписываемой Еврипиду трагедии «Рес» (18; 38), употреблялось преимущественно прозаиками, а выражение σῆμα λαχεῖν «получить по жребию гробницу» даже в прозе было весьма редким и присутствует лишь в нескольких надписях, из которых только одна была найдена в Малой Азии: в ионийском городе Теосе (CIG 3118, 6). И всё же можно обратить внимание на ионийскую форму винительного падежа στρατιήν и на аорист без аугмента λάχε – такие формы были свойственны эпосу.
Четвертый стих весь позаимствован из «Илиады» (III 179). У Гомера он больше нигде не встречается, и, следовательно, перед нами не формула, а еще одна цитата. «Равно и славным царем, и сильным воином» Елена называет в разговоре с Приамом Агамемнона. Получается, автор эпитафии сравнивает Юлиана с предводителем войска ахейцев, ставя знак равенства между царственностью одного и другого, и это сравнение опосредованно как бы снимает констатацию неудачного похода, выраженную первой цитатой. Слова о «незавершенном деле» произнес сам Агамемнон, когда, испуганный ранением Менелая, представил себе, как в случае смерти брата он со стыдом отправится назад в Аргос и не выполнит дела, ради которого приплыл к берегам Илиона. Другими словами, «незавершенным делом» у Гомера был гипотетически назван весь поход против Трои, главное военное предприятие ахейцев, а не какое-то отдельное местное начинание. Но ранение Менелая оказалось легким, Троя была завоевана, и Агамемнон вернулся домой со славой победителя – фраза о «незавершенном деле», сказанная им в минуту отчаяния, была опровергнута его собственными деяниями. Юлиан не одержал победы и погиб на поле боя, и этот трагичный итог его жизни автор эпитафии пытается исправить через завуалированное сравнение с воином-победителем, уничтожившим город Приама. Перед читателем эпитафии, при условии его знакомства с поэмами Гомера, должно было возникнуть как бы два плана: на первом – проигравший битву и погибший Юлиан, на втором – завершивший свой поход победой Агамемнон, – и второй план, накладываясь на первый, словно закрывал факт поражения и поднимал погребенного до славы победоносного героя самой знаменитой войны.
Надпись на саркофаге Аристодемаиз Сидим
Вторая надпись была вырезана на саркофаге в городе Сидимы на юго-западе Ликии [TAM II.1 203]. Датируется она периодом Римской империи, написана элегическим дистихом и является акростихом – из первых букв каждого стиха складывается имя хозяина гробницы [Merkel-bach, Stauber 2002: 35–36, 17/08/04]:
Α ἄνθρωπος κἀγώ τις ἐὼν ταλα[σ]ίφρονι<ι> θυμῷ
Ρ ῥηιδίου βιότου πᾶν τέλος ἐφρασάμην,
Ι ἴχνος ὅπου λήγει βιοτήσιον ἢ τί περισσὸν
Σ σώματος ἐσσεῖται πνεύματος ἐκπταμένου.
Τ τούνεκα δὴ τόδ’ ἔτευ[ξ]α [λ]ι̣θο[ξ]οϊκῇ χερὶ ἄνγος3, Ο ὄφρα μένῃ σκῆνος κἂν κόνις οὖσα τύχῃ.
Δ δῶρα βίου τ[άδ]ε [μ]οῦνα ἑαυτῷ ἄφθονα τεύ[ξ]ας
Η ἡμ[ε]τέρῃ τε [ἀλ]όχ[ῳ] Ναννίδι σεμνοτάτῃ, Μ μουνολεχῆ ζήσασι βίον μο[ύ]νοισί τε τύμβον Ο οἶκον ἐλευ[θ]ερίης σεμνοπρεποῦς ἐθέμην, Υ ὑμεῖν4 το[ῖς μ]ε[τ]έπειτα βίου ἀτρα[π]οὺς ὑπο[φ]αίνω[ν.
ἐκ [δ]ὲ ἀκρο[στι]χί[δ]ος γνῶθι, τὸ σῆμ[α] τίνος, –
«Будучи сам человеком, своим терпеливоразумным
Духом обдумал я весь сладостной жизни конец:
Где обрывается жизненный след, и в итоге от тела Что остается, когда вылетит вздох из груди?
Каменотеса рукой потому и воздвиг я гробницу,
Тело хранилось в ней чтоб, хоть превратилось бы в прах.
Щедрые эти от жизни дары для себя я построил
И для Наниды одной, нашей почтенной жены.
Верность друг другу хранившим всю жизнь, досточтимой свободы Дом погребальный лишь нам только одним я воздвиг:
Вам, поколеньям грядущим, я жизни стези раскрываю.
Ты же из акростиха, чей саркофаг сей, узнай!»
Автор этой эпитафии – а по ее неординарности вполне можно допустить мысль о том, что им был сам Аристодем, – явно стремился создать оригинальное произведение и весьма умеренно обращался к эпической традиции. В эпитафии присутствует много словосочетаний, которые вообще не зафиксированы у других авторов, даже при учете разных падежных форм существительных и разных временных форм глаголов, например: ῥηιδίου βιότου «легкой жизни», βιότου τέλος «конец жизни», ἴχνος λήγει «след заканчивается», ἴχνος βιοτήσιον «жизненный след», περισσὸν σώματος «остающееся от тела», πνεύματος ἐκπταμένου «когда улетело дыхание», λιθοξοϊκῇ χερί «рукой каменотеса», μένῃ σκῆνος «[дабы] осталось тело», κόνις οὖσα τύχῃ «станет по случаю прахом», δῶρα βίου «дары жизни», μουνολεχῆ βίον «жизнь в верности супругу», ἐλευθερίης σεμνοπρεποῦς «досточтимой свободы», ἀτραποὺς ὑποφαίνων «показывающий тропинки», ἐκ ἀκροστιχίδος γνῶθι «узнай из акростиха». Кроме того, несколько словосочетаний, использованных в эпитафии, встречаются у других авторов буквально в единичных контекстах: τέλος ἐφρασάμην «я обдумал конец», ἔτευξα ἄνγος «я воздвиг гробницу», δῶρα ἄφθονα «щедрые дары», ἀλόχῳ σεμνοτάτῃ «почтеннейшей супруге», τύμβον ἐθέμην «я построил гробницу», σῆμα τίνος – «кого гробница».
Однако за двумя из этих словосочетаний отчетливо просматриваются перефразированные эпические выражения. «Конец жизни» у автора эпитафии βιότου τέλος, а у Гомера дважды встречается βιότοιο τελευτή (Il. VII 104; XVI 787). Πνεύματος ἐκπταμένου «когда улетело дыхание» явно создано по аналогии с гомеровской формулой ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός «отлетел дух» (Il. XVI
469; Od. X 163; XIX 454; ср. Il. XXIII 880). Словосочетание ῥηιδίου βιότου «легкой жизни» составлено из слов, каждое из которых по отдельности активно использовалось в поэмах Гомера: βίοτος встречается там 40 раз, а ῥηίδιος и наречие ῥηιδίως – 27 раз. Впрочем, в окружении этих многочисленных синтаксических неологизмов имеются и настоящие гомеровские словосочетания: θυμῷ ἐφρασάμην «я обдумал духом» аналогично φράζετο θυμῷ (Il. XVI 646), φράζεο θυμῷ (Il. XV 595), φράσσαντό τε θυμῷ (Il. XXIV 391), συμφράσσατο θυμῷ (Od. XV 202); δῶρα τεύξας «воздвигший дары» перекликается с δῶρα τετυγμένα «созданные дары» (Od. XVI 185) и δῶρα, τά οἱ Ἥφαιστος κάμε τεύχων «дары, создавая которые для него Гефест устал» (Il. XIX 368); ἡμετέρῃ ἀλόχῳ «нашей супруге» напоминает о гомеровских ἡμέτεραί τ’ ἄλοχοι «наши супруги» (Il. II 136) и ἡμετέρῃς ἀλόχοισι «нашим супругам» (Il. VI 114). Также автор эпитафии не преминул воспользоваться гомеровскими словами и эпическими формами отдельных слов: ὄφρα, ἐών, ῥηιδίου, ἐσσεῖται, ἐκπταμένου, χερί, μοῦνα, ἡμετέρῃ, μούνοισι, ἐλευθερίης.
Но самое важное для нашего исследования – это появление в первом стихе прилагательного ταλασίφρων: Аристодем говорит о том, что обдумал всё ταλασίφρονι θυμῷ «терпеливоразумным духом». Точно такое же выражение у Гомера не встречается, хотя оно есть, например, у Тиртея (Fr. 5 West). Но само прилагательное ταλασίφρων выступает у Гомера устойчивым эпитетом Одиссея: из 13 случаев употребления только один раз ταλασίφρων характеризует не Одиссея, а просто мужа (Il. XI 466; Od. I 87; I 129; III 84; IV 241; IV 270; V 31; XVII 34; XVII 114; XVII 292; XVII 510; XVIII 311; ср. Il. IV 421). Выбор именно это- го эпитета едва ли был случайным. Через него Аристодем попытался выразить главную черту своего характера и сравнил себя со знаменитым царем Итаки. Иными словами, мы вновь наблюдаем ситуацию, когда привлечение гомеровского эпитета расширяет смысловые рамки эпитафии и к тому же дает определение ее автору: он мог описать себя любыми словами и неожиданными неологизмами, но для самого себя, для выражения сути своего мировосприятия он предпочел прибегнуть к гомеровскому эпитету, отдавая дань его выразительности, глубокому смыслу и культурной значимости.
Эпитафия Мосхаро из Коринфав Тельмессе
На одной из гробниц римского времени в Тельмессе в западной Ликии была вырезана короткая эпитафия, написанная элегическим дистихом [Merkelbach, Stauber 2002: 13, 17/03/03]:
Μοσχαρὼ ἐξ Ἐφύρης πινυτὴ φρένας | ἐνθάδε κεῖμαι ὠδῖσι τριδύμων θυμὸν | ἀφεῖσα τέκνων |
Ξεινιάδης δέ μ’ ἔθαψεν ἐμὸς πόσις | εὐκτὰ πέπονθα | ἀνδρί τε καὶ δισσοῖς | παισὶ προπεμπομένη, –
«Благоразумная, здесь я лежу, Мосхаро из Эфиры, Тройню рожая на свет, свой испустила я дух.
Похоронил меня муж Ксениад, и отрадно мне было – Двое детей и супруг в путь проводили меня».
Эта скромная эпитафия, излагающая, как умерла Мосхаро и как проходили похороны, уже по своему содержанию оставляла весьма мало возможностей для использования эпического материала. И всё же автор – возможно, это был сам Ксениад – смог задействовать в ней отдельные гомеровские слова – Ἐφύρη, πινυτός φρήν, θυμός, πόσις, εὐκτός – и даже обыграл два эпических выражения: θυμὸν ἀφεῖσα «испустившая дух» заменило синонимичное гомеровское θυμὸν ἀποπνείων (Il. IV 524; XIII 654), а πινυτὴ φρένας «разумная умом», где πινυτή – это прилагательное, внешне совпало с πινυτὴ φρένας ἵκει «благоразумие овладевает разумом», где πινυτή – это существительное (Il. XX 228). При этом встречающееся один раз у Гомера (Il. XIV 98) прилагательное εὐκτός оказалось дополнением при глаголе πέπονθα, образовав синтаксический неологизм.
Мосхаро была родом из Коринфа. Но автор эпитафии сознательно заменил современное ему название этого города на древнее, знакомое Гомеру название Эфира (Il. VI 152; VI 210). Также главным эпитетом, характеризующим Мосхаро, он выбрал πινυτή «благоразумная», то есть именно то слово, которое было устойчивым эпитетом Пенелопы (Od. XI 445; XX 131; XXI 103; XXIII 361). А значит перед нами еще одно завуалированное сравнение, и обращение к Гомеру снова происходит ради более объемного описания той, кому была посвящена эпитафия: Мосхаро была не просто разумной, а столь же благоразумной, как и супруга Одиссея.
Надпись термессца Конона, созданная в Риме
В Риме, далеко от Малой Азии, была найдена мраморная стела I–II вв., воздвигнутая жителем писидийского города Термесса Кононом, сыном Гермея, в память о двух его соотечественниках, умерших в Риме (IGUR III 1204). Эпитафия написана гекзаметром: первые шесть стихов от имени первого умершего, сына Орфагора, вторые шесть – от имени второго умершего, Гермея, сына Артима. Последняя строка в прозе объявляла имя создателя стелы [Arroyo-Quirce 2017: 131]:
Τερμησσὸν ναίων Σολύμοις | ἐνὶ κυδαλίμοισι | ἤλυθον ἐς Ῥώμην τρίτος | ἀστῶν κῆρι πιθήσας· | ἀλλὰ θανὼν ἡβῶν συνοδυπόρον5 | Ἄϊδος ε[ἴ]σω δεύτερον αὖτ’ ἀνέμεινα | [τ]ὸν ἐκ πάτρης ἅμ’ ἰόντα· | [ἀμ]φοῖν δ’ ὀστέα κεῖται | [ὁμοῦ νούσ]οισι καμόντων, | [....] νου Ὀρθαγόρου παιδὸς | [βλο]συροῦ τε Ἑρμαίου. | σο[ὶ δ’ ἐ]γώ, Ὀρθαγόροιο τέκος, | προϊόντι κατ’ αἶσαν | εἰς Ἀΐδαο δόμους συνεφέσπ[ο]μαι | ἠίθεος φώς, | Ἑρμαῖος Ἀρτείμου Σολυ[μηΐ]δος | αὖτ’ ἀπὸ γαί[ας]. | σάρκας μὲν πῦρ νῶ[ιν ἐδαί]σατο, | ὀστὰ δὲ κεύθ[ει] | ἥδε χθὼν πάμφορβο[ς], ἀτὰρ | ψυχαὶ θεόπεμπτοι | οἴχεσθον κατὰ γῆς ἑνὶ δαίμονι | ξυνὰ κέλευθα. |
Κόνων Ἑρμαίου [τ]οῖς φίλο[ις] | μνήμης χάριν, –
«Жил я в Термессе среди достославных солимов и прибыл, Сердцу доверившись, в Рим – из сограждан со мной было двое, – Возраст цветущим мой был, но я умер и в царстве Аида Спутника также дождался, с кем с родины вместе уехал.
Кости обоих лежат, от болезней скончались мы оба, Сын Орфагора, [Парме]н6, и Гермей столь степенный по нраву. Я за тобой, Орфагора дитя, в дом Аида сошедшим
Прежде меня – суждено так, – последовал, муж неженатый, Чадо Артима, Гермей, из отечества Солимеиды.
Плоть нашу выжег огонь, и земля всекормящая кости
В недрах скрывает своих, между тем богоданные души
Общей под землю дорогой спускаются с даймоном тем же. Конон, сын Гермея, друзьям ради памяти».
Автором этой двойной эпитафии, скорее всего, был сам Конон, сын Гермея: ведь он фактически подписал эти гекзаметры своим именем, и, кроме того, следуя традиции Термесса (о ней свидетельствуют надписи из этого города: [TAM III.1 18, 4; 103, 5; 135, 6–7; 548, 9]), назвал его жителей солимами, а сам город – Солимеидой; нанятый римский поэт едва ли бы знал такие подробности местного термесского словоупотребления. Текст Конона изобилует гомеровскими словами: ναίω, ἐνί, κυδάλιμος, ἐς, κῆρ, Ἀΐδης, αὖτε, πάτρη, νοῦσος, τέκος, αἶσα, δόμος, φώς, γαῖα, δαίω, κεύθω, χθών, ξυνός, κέλευθα – и свойственными эпосу грамматическими формами: κυδαλίμοισι, ἤλυθον, πιθήσας, θανών, Ἄϊδος, πάτρης, ὀστέα, νούσοισι, Ὀρθαγόροιο, Ἀΐδαο, νῶιν. Нередко Ко-нон включает в свои стихи и гомеровские формулы: Σολύμοις ἐνὶ κυδαλίμοισι «среди славных солимов» отличается от соответствующего выражения у Гомера только наличием предлога и окончанием этнонима (Il. VI 184; VI 204); формула Ἄϊδος εἴσω «в Аиде» занимает исход стиха – именно в такой позиции она всегда встречается у Гомера (Il. III 322; VI 284; VI 422; VII 131; XI 263; XIV 457; XXII 425; XXIV 246; Od. IX 524; XI 150; XI 627; XXIII 252); ὀστέα κεῖται «кости лежат» (Od. XIV 135; XXIV 76); κατ’ αἶσαν «в соответствии с судьбой» (Il. III 59; VI 333; X 445; XVII 716) имеет у Гомера еще вариант ὑπὲρ αἶσαν «сверх судьбы» (Il. III 59; VI 333; VI 487; XVI 780; XVII 321), который, как и в эпитафии, может занимать тесис пятой стопы и шестую стопу; εἰς Ἀΐδαο δόμους «в дом Аида» стоит, как и у Гомера, в начале стиха (Od. X 175; X 491; X 564; XIV 208); формула ἀπὸ γαί[ας] – «из земли» реконструирована издателями с ошибкой: в эпической традиции она пишется через букву эту ἀπὸ γαίης, причем не только у Гомера (Il. VIII 16), но и у Гесиода (Theog. 715), в орфических гимнах (XXIX 17; XXXVI 14; LVI 12) и т. д. Выражение χθὼν πάμφορβος «всекор-мящая земля» определенно является переделкой metri causa гомеровского выражения γαῖα πολύφορβος (Il. IX 568; XIV 200; XIV 301).
Из всех этих эпических элементов самым весомым с точки зрения смысла эпитафии следует признать выражение Σολύμοις ἐνὶ κυδαλίμοισι «среди славных солимов». Жители Термесса считали себя потомками древнего племени соли-мов, которые, согласно Страбону, «занимали вершины Тавра вокруг Ликии вплоть до Писи-дии, причем самые высокие» (I 2, 10). Именно этих солимов дважды упомянул Гомер: в «Илиаде» Главк, сын Гипполоха, рассказал Диомеду, что его дед Беллерофонт «сражался со славными солимами» (VI 184) и что Ареc убил Исандра, сына Беллерофонта, когда тот «сражался со славными солимами» (VI 204). О солимах писали Геродот (I 173) и Тимаген Милетский (Steph. Byz. Eth-nica M187 (s.v. Μιλύαι) Billerbeck). Но когда в далеком Риме Конон потерял двух друзей и хотел подчеркнуть в эпитафии, что их объединяло – а на чужбине это казалось особо важным – происхождение из родного для них Термесса, он выбрал именно гомеровское выражение и назвал свой народ «славными солимами». Иначе говоря, слова Гомера опять были призваны для того, чтобы раскрыть то самое основополагающее, что сплотило в Риме молодых людей и из чего они черпали силы, указать на их исторические корни.
Вступление к алфавитному оракулу в скальном святилище на территории Адад
Есть в нашем распоряжении и удивительный пример цитирования Гомера в прозе. В Писидии на землях города Адады на скале возле дороги было устроено скальное святилище с алфавитным оракулом7. Тексту оракула предшествовало прозаическое вступление [Sterrett 1888: 311–314; Nollé 2007: 232]:
δέσποτα Ἄπολλον καὶ Ἑρμεία, ἡγεῖσθαι | Ἀντίοχος καὶ Βιάνωρ· παροδείτα, ἵσδευ καὶ | χρησμῶν ἀρετῆς ἀπόλαυσον ἡμεῖν | γὰρ ἐκ προγόνων· μαντοσύνην τήν οἱ πόλ|ε8 Φοῖβος Ἀπόλλων, –
«Владыка Аполлон и Гермес, предводительствуйте. Антиох и Бианор [говорят]: Путник, присядь и вкуси от высокого мастерства прорицаний. Мы ведь [получили] от предков “пророческое дарование, которое дал ему Феб Аполлон”».
Процитированный здесь почти полностью стих принадлежит первой песне «Илиады»: поэт рассказывает, что прорицатель Калхант привел ахейские корабли к Илиону «благодаря своему пророческому дарованию, которое дал ему Феб Аполлон» (ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων, I 72). Составляя вступление к алфавитному оракулу, Антиох и Бианор вставили этот стих, отбросив лишь первые два слова, в свой текст без какой-либо отсылки к Гомеру, а значит, они были уверены, что используемая ими цитата и без указания источника будет для всех вполне очевидной. Но ради чего обратились они к словам Гомера? Эти два жителя Адад задумали создать у дороги, которая вела от их города на запад, маленькое прорицалище под открытым небом. На скале был вырезан текст алфавитного оракула – то есть двадцать четыре одностишных прорицания, каждое из которых начиналось с последующей буквы греческого алфавита. По верованиям того времени, подобная надпись вызывала появление возле себя оракула, вещего духа места. Именно благодаря посредничеству оракула вопрошавший обращался за помощью к божеству и получал из камешков с обозначенными на них буквами тот, который указывал на возвещаемый ему богом ответ. Желая подтвердить свое право основывать подобное святилище, Антиох и Бианор объявляют во вступлении о своей принадлежности к древнему пророческому роду. Эллины всегда верили, что дар прорицания передается по наследству, и принесли эту веру в том числе и народу Писидии. Поэтому Антиоху и Бианору для доказательства своего пророческого дарования важно было, в соответствии с эллинской традицией, назвать имя пророка-основоположника их рода. Но вместо того, чтобы прямо сказать, что, мол, наш род восходит к прославленному Калханту, завоевавшему с ахейцами Трою, они выбрали из текста Гомера именно ту фразу, которая не просто указывала на Калханта, но и авторитетом великого поэта подтверждала происхождение его пророческого дара от самого Аполлона. В том, что в писидий-ской глубинке некий, скорее всего, весьма знатный род – вырезать на скале столь длинную надпись было делом достаточно затратным – объявлял своим далеким предком Калханта, нет ничего удивительного, если вспомнить, что по после окончания Троянской войны Калхант путешествовал по Малой Азии и почитался, например, основателем писидийского города
Сельги (Strab. XII 7, 3), чьи земли лежали к юго-востоку от Адад.
Стихи Гомера для выражения самого важного, или Заключение
Все рассмотренные нами надписи свидетельствуют не только о том, что к периоду Римской империи жители южных областей Малой Азии считали себя частью эллинского мира и представители городских элит получали достойное образование и обладали хорошим знанием поэм Гомера, но и о том, что эти люди, никогда не забывавшие о своих анатолийских корнях, признали принесенного им переселенцами Гомера своим великим поэтом и обращались к его стихам для выражения самых важных мыслей как о своих близких, так и о самих себе и об историческом прошлом своего рода. Их родственники по своим нравственным качествам были такими же, как и гомеровские герои, и словами поэта эллинов они с гордостью говорили о своем совсем не эллинском происхождении.
Список литературы Традиционное цитирование Гомера как способ идентификации в надписях Южной Малой Азии
- Приходько Е. В. «Суровые боги» становятся «Справедливыми богами», или Об одном местном культе высокогорий Кибиратиды, Милиады и северной Ликии // Индоевропейское языкознание и классическая филология XXVII (2) (чтения памяти И. М. Тронского): материалы Междунар. конф., (26-28 июня 2023 г.) / гл. ред. Н. Н. Казанский. СПб.: ИЛИ РАН, 2023. С. 946-994.
- Arroyo-Quirce H. Glorious Solymi. Homer and a Neglected Inscription Concerning Pisidian Termessos at Rome // Epigraphica Anatolica. 2017. Heft 50. P.129-132.
- Delemen Í. Anatolian Rider-Gods. A Study on Stone Finds from the Regions of Lycia, Pisidia, Isauria, Lycaonia, Phrygia, Lydia and Caria in the Late Roman Period. (Asia Minor Studien. Bd. 35). Bonn: Dr. Rudolf Habelt GMBH, 1999. 228 p.
- Horsley G. H. R. Homer in Pisidia: Aspects of the History of Greek Education in a Remote Roman Province // Antichthon. 2000. Vol. 34. P. 46-81.
- IGUR - Inscriptiones Graecae Urbis Romae / Curavit L. Moretti. Vol. 1-4. Rome: Instituto Italiano per la Storia Antica, 1968-1990.
- I§in G. The Sanctuaries and the Cult of Apollo in Southern Pisidia // Anadolu / Anatolia. 2014. Bd. 40. P.87-104.
- Labarre G. Les origines et la diffusion du culte de Men // Bru H., Lebreton S., Kirbilher F. (éds.). L'Asie Mineure dans l'Antiquité: échanges, populations et territoires. Regards actuels sur une péninsule. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2009. P.389-414.
- Marksteiner Th., Stark B., Wörrle M., Yener-Marksteiner B. Der Yalak Baçi auf dem Bonda Tepesi in Ostlykien. Eine dörfliche Siedlung und ein ländlicher Kultplatz im Umland von Limyra // Chiron. 2007. Bd. 37. S. 243-292.
- Merkelbach R., Stauber J. Steinepigramme aus dem Griechischen Osten. Bd. 4. Die Südküste Kleinasiens, Syrien und Palaestina. München; Leipzig: K. G. Saur Verlag, 2002. 471 S.
- Nollé J. Kleinasiatische Losorakel. Astragal- und Alphabetchresmologien der hochkaiserzeitlichen Orakelrenaissance. München: Verlag C. H. Beck, 2007.331 S.
- Ritti T. An Epigraphic Guide to Hierapolis (Pamukkale) / Translated from the Italian by P. Arthur. Istanbul: Ege Yayinlari, 2006. 211 p.
- Sterrett J. R. S. The Wolfe Expedition to Asia Minor (Papers of the American School of Classical Studies at Athens. Vol. III. 1884-1885). Boston: Damrell und Upham, 1888. 448 p.
- TAM - Tituli Asiae Minoris. Wien, 1901.