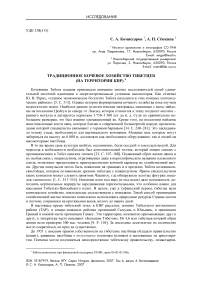Традиционное кочевое хозяйство тибетцев (на территории КНР)
Автор: Комиссаров С.А., Смкина А.П.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736909
IDR: 14736909 | УДК: 338(515)
Текст статьи Традиционное кочевое хозяйство тибетцев (на территории КНР)
ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 338(515)
-
С . А. Комиссаров 1, А. П. Сёмкина 2
-
1 Институт археологии и этнографии СО РАН пр. Акад. Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия E-mail: sergai@mail.ru
-
2 Новосибирский государственный университет ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия E-mail: orient@lab.nsu.ru
ТРАДИЦИОННОЕ КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО ТИБЕТЦЕВ (НА ТЕРРИТОРИИ КНР) *
Кочевники Тибета издавна привлекали внимание многих исследователей своей удивительной системой адаптации к сверхэкстремальным условиям высокогорья. Как отмечал Ю. Н. Рерих, «главное экономическое богатство Тибета находится в этих кочевых скотоводческих районах» [3. С. 313]. Однако история формирования кочевого хозяйства пока изучена недостаточно полно. Наиболее ранние остеологические материалы, связанные с яком, найдены на поселении Цюйгун (к северу от Лхасы), которое относится к этапу позднего неолита – раннего металла и датируется периодом 3 750–3 500 лет до н. д. Судя по сравнительно небольшим размерам, это был именно одомашненный як. Кроме того, на поселении найдены многочисленные кости овец, которые близки к современной большерогой породе, происхождение которой специалисты связывают с горными баранами [34. С. 240–243]. Это закладывало основу стада, необходимую для вертикального кочевания. Мощные яки, которые могут забираться на высоту до 6 000 м, доставляли как необходимое оборудование, так и людей на высокогорные пастбища.
В то же время сама культура цюйгун, несомненно, была оседлой и земледельческой. Для перехода к мобильности необходим был дополнительный толчок, который можно связать с проникновением в Тибет цянских племен [33. С. 107–108]. Подвижный образ жизни цянов и их особая связь с овцеводством, отразившаяся даже в иероглифическом названии племенного союза, позволяют предположить преимущественно кочевой характер их хозяйственной жизни. Другим импульсом могло быть появление на границах и в пределах Тибета кочевников-сяньбэйцев, которые познакомили древних тибетцев с коневодством. Ярким свидетельством таких контактов может служить памятник Чацзягоу, где обнаружили золотые фигурки лоша-док-«монголок» [1. С. 351–354]. Освоение коня под верх (и под вьюк) дало возможность дополнить вертикальные маршруты передвижения горизонтальными, что особенно важно для населения Тибетско-Цинхайского плато. В целом, уже в туфаньский период тибетцы вели комплексное хозяйство, земледельцы соседствовали с номадами. Такой способ организации хозяйственной жизни позволял комплексно использовать природные ресурсы Страны снегов и поэтому сохранялся на протяжении веков, вплоть до наших дней.
В настоящее время тибетский этнос в КНР расселен, помимо Тибетского автономного района (ТАР), в северо-западных районах провинций Сычуань и Юньнань, в провинции Цинхай и южной части провинции Ганьсу. Эти территории, компактно примыкающие друг к другу, в литературе часто называют «Большим Тибетом». Из 4,6 млн тибетцев кочевой образ жизни вели примерно 500 тыс. человек [9. Р. 105]. За последнее десятилетие их количество могло сократиться, но вряд ли существенно.
До 1951 г. высшим правом собственности на тибетские пастбища обладало правительство (кашаг), дававшее пастбища в пользование племенам (кланам) и жаловавшее их аристократии. Племена могли подчиняться непосредственно тибетскому правительству, монастырям, панчен-ламе, Далай-ламе и представителям аристократии. Это подчинение носило наследственный характер; кочевники не могли со своими стадами уйти на земли другого владельца, которому они выплачивали ренту продуктами своей деятельности (прежде всего, маслом, а также кожами, шерстью, солью, веревками и т. п.). Во главе племени стоял вождь. Хотя правом на пользование пастбищами обладало все племя в целом, однако в рамках этого существовали различные нормы пользования [35. С. 120–121]. Границы между пастбищами разных племен проходили по различным природным объектам (рекам, долинам, озерам и т. д.), и только члены племени имели право пасти скот на этих пастбищах. Большое племя часто делилось на небольшие группы, между которыми распределялись отдельные выпасы. Собственность на пастбища считалась общественной.
В качестве хозяйственной единицы выступала семья. Зимние и весенние пастбища обычно закреплялись за каждой семьей, а летнее пастбище использовалось совместно всем племенем. Вождь обладал правом определять область кочевки семей, его управляющие согласовывали время и место с представителями кланов (понпо), которые затем координировали свою группу семей [28. С. 154]. Периодически, в зависимости от состояния пастбищ и количества скота у семей, проводилось перераспределение угодий (примерно раз в три года), что защищало их от деградации [37. С. 83]. Почти все пастбища имели названия. Скотоводы, находящиеся в пути на свое пастбище, могли задержаться на чужом не больше, чем на одну ночь [9. Р. 37].
Обычно номады кочевали рукорами – небольшими объединениями семей (обычно родственных), которые жили рядом, – своего рода хозяйственными подразделениями, которые осуществляли совместную пастьбу и другую деятельность с целью взаимной поддержки в тяжелых условиях окружающей среды. Часто это было объединение богатых семей с бедными, которые помогали вести хозяйство за плату [7. Р. 50]. Скотоводы не должны были вторгаться на чужие пастбища, в таких случаях в качестве предупреждения использовалось отрезание хвостов якам и лошадям или даже одной ноги овцам. До военных столкновений и кражи скота в качестве мести доходило лишь в крайних случаях. Если угодий не хватало, то скотоводы могли обратиться к вождю соседнего племени с просьбой о временном пользовании пастбищами или их аренде.
В северной части территории, занимаемой союзом хэйхэ, а также в других малонаселенных районах с богатыми угодьями племена обозначали границы пастбищ приблизительно. Достаточно было предварительно уведомить вождей о намерении пасти скот в их степи, и разрешение обычно получалось без взимания какой-либо арендной платы или даров. Особой доброжелательностью отличался район Амдо (Аньдо), где столкновений по поводу пастбищ практически не происходило, и скотоводы из других племен и торговцы могли свободно пасти свой скот вплоть до полугода. Нельзя только было останавливаться на долговременное поселение в чужой степи, кроме исключительных случаев по разрешению вождя. В южной части территории союза хэйхэ, а также в других районах со строго разграниченными пастбищами и соблюдением их границ при обращении с просьбой об использовании угодий всегда преподносились дары, хозяева учитывали степень родства с просителями. Скотоводы из другого рода облагались арендной платой за выпас, которая взималась маслом и прочими продуктами. Собранная рента обычно шла на коллективный счет: на подношения при чтениях сутр, на повинности и налоги.
Вожди племени нередко присваивали часть пастбищ, как правило, лучшую. Данное явление было представлено у племен Северного Тибета в разной степени. Согласно статистике, у племени гомути 1 пастбища были поделены на 70 участков, 16 из них занимал вождь, который мог сдавать земли в аренду, передавать другим скотоводам, вплоть до продажи. Обычно вожди забирали себе зимние пастбища, так как, во-первых, на них были стационарные постройки (дома, хлева, стены), которые также использовались для закрепления на данном пастбище. Во-вторых, в зимний период, особенно при сильных снегопадах, скот очень ослабевает, высок его падеж, поэтому лучшие зимние пастбища позволяют скотовладельцам сократить потери.
У полуоседлого племени доба в районе Амдо не было понятия частной собственности на пастбища. Скотоводы могли жить на одном месте в течение трех-пяти, иногда и более десяти лет (зимние стоянки). Но при этом они не соотносили участок, на котором живут, со своей собственностью. Кто угодно мог прийти на это место, как и на хороший участок пастбища. Действовало правило, что первый пришедший обладал определенным приоритетом в использовании угодий, что не исключало их совместного использования.
Была еще одна особенность развития частного владения – постепенное появление небольших домашних пастбищ у полуоседлых скотоводов. Сначала вокруг своей палатки или дома они закрепляли небольшой участок для сохранения кормов для приплода. По традиции, туда не мог заходить чужой скот. В некоторых местах эти небольшие участки пастбища превратились в частные владения семьи.
Таким образом, до конца 1950-х гг. у тибетских номадов существовало право землепользования, основанное на членстве в племени, хотя межевание между владениями разных племен, как правило, не проводилось. В то же время существовала семейная собственность на скот. Например, в племенах жэси и чажэнь союза бижу частный скот занимал более 85 % от общего поголовья. У племени ломажансюэ союза хэйхэ доля частного скота достигала 88,1 %, а у скотоводов союза дансюн – около 96 %. У племени дома весь скот был частным. В распоряжении своим скотом у собственников не было никаких ограничений.
Лишь небольшая часть скота в поголовье могла быть правительственной. Например, в племени дома, по статистике 1959 г., пасли шесть правительственных яков. Столь ничтожная доля объясняется тем, что скотоводы этого племени были в большинстве зажиточными. В дореформенный период 80 % семей были середняками (имели более 30 яков и 200 овец), 5 % относились к богатым (имели более 500 яков, 1 000 овец), а четыре очень богатые семьи имели более 800 яков и 3 000 овец каждая [35. С. 123]. Другие племена пасли больше правительственного скота, но доля его была относительно мала. По статистике, у племен, относящихся к племенному союзу хэйхэ, доля скота, принадлежавшего «трем крупнейшим помещикам» (как называли в китайской историографии правительство, аристократию и монастыри), составляла 22,36 % общего поголовья. В целом, доля такого скота в Северном Тибете не превышала трети общего поголовья.
Именно количество скота наиболее ярко отмечало имущественное расслоение в составе племени (табл. 1; 2 2 ). В особенности оно обострялось в районах с ограниченными пастбищными ресурсами. Чтобы обеспечить прожиточный минимум, семье скотовода в Северном Тибете на одного человека необходимо иметь в среднем пять яков (три из них молочных) и 20 овец (треть из них – овцематки). Но далеко не все семьи достигали этого минимума. Так, из 291 семьи племен мэньдуй, чива, дожэнь 157 семей не достигали этого уровня. При неразвитости в скотоводческих районах ремесленных промыслов, торговли, промышленности эти бедные скотоводы не имели другого выхода, как только арендовать скот у богатых соседей [Там же. С. 127]. Наиболее распространенной формой была аренда контрактного типа, где обе стороны заключали устное или письменное соглашение. В роли главных арендодателей скота выступали монастыри. Во-первых, монахи сами не могли заниматься скотоводством, и, во-вторых, скотоводы, как верующие, предпочитали брать в аренду монастырский скот. Желающих было много, монастыри могли выбирать наиболее выгодные варианты.
Расслоение (по размеру стада) у племени чиважува союза хэйхэ
Таблица 1
|
Прослойка |
Количество семей |
Общее количество скота |
В среднем на семью |
|
Богатые |
3 |
5 530 |
1 843,3 |
|
Средние |
29 |
23 076 |
795,7 |
|
Бедные, крайне бедные |
106 |
20 294 |
191,5 |
|
В целом |
138 |
48 900 |
354,3 |
Расслоение (по размеру стада) у племени куэрман союза хэйхэ
Таблица 2
|
Прослойка |
Количество семей |
Общее количество скота |
В среднем на семью |
|
Богатые |
2 |
6 111 |
3 055,5 |
|
Средние |
2 |
3 387 |
1 693,5 |
|
Бедные, крайне бедные |
123 |
40 992 |
333,4 |
|
В целом |
127 |
50 490 |
397,5 |
Состав стада определяет экономическую эффективность хозяйства. Тибетские овцы быстро растут и хорошо плодятся, сравнительно мало едят, дают много шерсти, которая признана на международном рынке (марки «Синин»), т. е. являются наиболее выгодными в выращивании. Яки же, напротив, мало плодятся, медленно растут, много едят, шерсти с них меньше. В 1950-х гг. в южной части Цинхая, в районе Голог, соотношение овец и яков было 1 : 1,1, а в районе Хуаньху – 3 : 1. К тому, чтобы скотоводы растили два главных вида скота в таком соотношении, есть свои экологические, экономические и культурные предпосылки. Географически Голог находится на высоте 3 800–4 500 м над уровнем моря, а Хуаньху – 3 200 м. Яки прекрасно переносят холод и ходят по горам, привычны к высокогорной короткой и жесткой траве. Иначе говоря, состав стада определяется высотными показателями. К примеру, в составе стада в уезде Нагчу (яки, овцы, козы и лошади) яков 23 %, овец около 55 % и коз более 20 % поголовья. Лошади, для которых специально выращивают корма, составляют только 0,9 % [35. С. 76].
Рационы яка и овцы не пересекаются, поэтому пасти их можно на одном и том же участке. Экскременты яка служат хорошим удобрением для пастбища. К тому же як более устойчив к холодам, ветрам и снегопадам. Скотоводы считают, что при совместном существовании яков и овец, овцы растут лучше и здоровее, а при отдельном выращивании овец их выживаемость ниже. Як является главным источником благ, гарантирующих самодостаточное существование скотовода. Материал для постройки жилища скотовода – палатки – полностью дается яком, значительная часть мяса, молока и масла, употребляемая в пищу, – тоже от яка. Такие виды производственно-бытового инвентаря, как веревки, мешки и пр., а также основное топливо – все получает скотовод от яка. Кроме того, як – еще и важнейшее транспортное средство [38. С. 215]. Яки и овцы издревле выпасались тибетцами в холодной высокогорной степи, данный естественный выбор поддерживается традицией, и скотовод ради поиска выгоды не желает менять его. Поэтому в каждом племени, в каждой семье всегда сосуществуют овцы, яки, козы, а также некоторое количество лошадей. В условиях высокогорья лошадь не имеет особой экономической ценности, а усилий для выращивания требует довольно больших. В то же время лошадь является символом богатства и общественного статуса, безлошадный мужчина не пользуется уважением [27. С. 49].
Рост стада в тибетском хозяйстве в сравнении с другими районами сильно ограничивается природной средой. Только в течение 1955–1990 гг. в Тибете зафиксированы шесть суровейших зим, сопровождавшихся обильными снегопадами, приводившими к падежу 20–30 % скота. В 1990-х гг. сильные снегопады произошли дважды. Особой суровостью отличалась зима 1997–1998 гг.: 40 % скотоводов района Нагчу оказались на пороге бедности, а во всем ТАР было утрачено более 3 млн голов скота [23. Р. 124; 6. Р. 19]. Можно сказать, что в прошлом «снежные катастрофы» поддерживали равновесие экосистемы [19. Р. 41–42].
По способам ведения хозяйства на севере Тибета выделялись три основных формы кочевого скотоводства.
-
1. Кочевание на большие расстояния «вслед за водой и травой», когда нет постоянных поселений, вся группа скотоводов в полном составе круглый год непрерывно перемещается вслед за скотом на сравнительно больших участках степи.
-
2. Полуоседлый образ жизни, кочевание на небольшие расстояния, когда перемещение в течение года проходит в рамках определенного ограниченного пастбища.
-
3. Сезонное кочевание по пастбищам, распределенным по двум или четырем сезонам. При такой форме кочевания ежегодно совершается два или четыре переезда вслед за сезонными изменениями. Количество кочевок зависело от ситуации с распределением пастбищ. У некоторых племен были выделены лишь зимне-весенние и летне-осенние пастбища, при этом место зимовки на зимнем пастбище являлось стационарным поселением из нескольких небольших домов и хлевов. При отсутствии домов как минимум имелись саманные стены, защищающие от ветра, и загоны. Зимой, вплоть до поздней весны, скотоводы постоянно жили здесь, а перед наступлением лета начинали семьями кочевать к летне-осенним пастбищам. Область и масштаб кочевания определяется травяным покровом пастбищ и размером стада [30. Р. 37–39; 35. С. 71–72]. Сезонное кочевание было самым распространенным на Цинхай-Тибетском плоскогорье. В конце мая – начале июня в степные районы на высоте 3 000 м над уровнем моря приходит теплый сезон, средняя температура воздуха выше 5 °С, вырастает новая трава. Именно в это время скотоводы уходят на высокогорные прохладные пастбища, поскольку скот не любит жару. В зимний сезон эти пастбища отдыхают. Начиная с конца августа – начала сентября на высокогорных пастбищах холодает, температура опускается до –5 °С, трава перестает расти, ночью может выпасть снег и растаять только к полудню. Тогда животных ведут на осенние пастбища. В последней трети ноября скотоводы спускаются на зимние пастбища. Обычно это теплые, сравнительно низкие по высоте горные долины, укрывающие от ветра, трава здесь поздно желтеет, хорошего качества. Поскольку она не использовалась в течение теплого сезона, то достигает 20–30 см в высоту, что достаточно на долгий зимний период. В этот период скот обычно поздно выводят на выпас и рано приводят в загон. При этом пастбища используются в определенном порядке – сначала пасут на дальних, затем на ближних пастбищах, сначала на северном склоне, затем на южном (солнечном),
Примером может служить деятельность племени дома, земли которого находятся в районе хребта Тангла (Тангулашань) уезда Амдо (Аньдо). Трава там начинает зеленеть поздно, травяной покров слабый, поэтому мобильность скотоводов в течение года очень велика. Время стоянки на одном месте обычно не превышает двух месяцев, но может сокращаться и до 5–10 дней. Некоторые семьи переезжают до 30–40 раз в год. Такого вида кочевания в большинстве придерживаются и скотоводы в Нежун, Амдо, Баньгэ, Шэньчжа.
В феврале-марте каждого года скотоводы переходят с северных зимних пастбищ Тангла южнее, к летним пастбищам. Хотя скотоводы начинают движение на юг из разных мест примерно в одно время, маршруты у них различные. Обычно перемещались по две-три семьи вместе, но иногда и каждая семья в отдельности. Транспортным средством служили лошади и яки. Чтобы собрать палатку и все добро скотовода в мешки, необходимо примерно три часа. Имущество обычной семьи можно было погрузить на десять яков, а зажиточным для этого могло понадобиться двадцать-тридцать животных. Время весенней кочевки совпадает со временем появления у скота приплода, скотоводам приходилось двигаться очень медленно, с частыми остановками, поэтому на перекочевку до летних пастбищ уходило от двух до трех месяцев. За опоздание с переходом каждая семья штрафовалась на два яка. По приезду на летние пастбища контролер кочевки («цзюйбэнь») проводил перекличку. Еще одна перекличка проводилась в июле во время сбора налогов в пользу тибетского правительства. Кроме этих двух раз перемещение скотоводов в период фактической независимости Тибета больше не контролировалось.
С мая по июль скотоводы обычно не кочевали. Кроме производственной деятельности в этот период проходил сбор налогов, религиозные мероприятия и праздники, различные состязания и ярмарки для обмена продукцией с земледельческим населением. Ежегодно из земледельческих районов Лхасы, Шигацзе и Шаньнань на летние пастбища племени для проведения обмена приезжали торговцы. В августе (самое позднее, в октябре) скотоводы начинали движение на север, на зимние пастбища, в район р. Татахэ. Здесь в течение двух месяцев они могли перекочевывать от двух до десяти раз без определенного направления вслед за лучшей травой [35. С. 67–69].
Такой способ кочевания был характерен для племени аба на р. Хэйхэ. У каждой семьи имелось постоянное жилище, несколько семей образовывали поселение, обычно в горной долине вблизи воды, где скотоводы зимовали. Весной и летом примерно третья часть семей меняла пастбища, но обычно недалеко от поселения – в 3–5 км, и максимум на три месяца. При смене пастбища со скотом уходила лишь часть семьи, один или два человека оставались присматривать за домом. Небольшие семьи часто уезжали полностью, нередко вслед за большими семьями, с которыми были связаны экономически. Время кочевки определяется запасами корма на пастбищах. Такая полуоседлая форма кочевания также характерна для союзов племен хэйхэ, дансюн [Там же. С. 71].
сначала на ровных местах, потом в ущельях [32. С. 115]. Чтобы оградить угодья от недобросовестного ведения хозяйства, многие племена назначали особые группы надзирающих, которые следили за сроками перекочевок и пресекали нарушения производственных норм. Также они следили за состоянием пастбищ [28. С. 211].
Вне зависимости от формы ведения хозяйства товарность была очень низкой. Хотя скотовод и получал добротную продукцию, он использовал ее только в своих нуждах и редко менял на другие товары. От большой массы «священного скота» продукция вообще не получалась, стричь животных можно лишь раз в год, за один надой корова-як дает лишь 1–1,5 л молока, правда, повышенной жирности. Ежегодно осенью проводился убой животных для еды, что составляло только 1–2 % поголовья стада.
Традиционно кочевники торговали с земледельцами и профессиональными торговцами (дворцовыми, частными и монастырскими). Главные продукты, без которых номады не могли обойтись, – ячмень-цинкэ и чай. В свою очередь они предоставляли земледельцам скотоводческую продукцию и соль, которой богаты озера Северного Тибета. Торговцам в основном сбывали овечью шерсть, а те продавали скотоводам чай и пр. Раньше скотоводы отправлялись на добычу соли в свободное от основного производства время, обычно два раза в год. Бедные скотоводы сразу по возвращении продавали соль на месте торговцам, некоторые направлялись в земледельческие районы менять соль на зерно. На это время приходилась пора созревания зерновых, и крестьяне запрещали скотоводам продвигаться вглубь территорий, боясь, что скот потравит поля. Поэтому зажиточные скотоводы откладывали соль до осени, чтобы потом продать ее в земледельческих центрах, где цены были выше [35. С. 95–97].
На период с восьмого по одиннадцатый месяц тибетского календаря, когда скот здоров и крепок, трава в изобилии, а земледельцы уже собрали урожай, приходился торговый сезон. Обычно на поездку в обе стороны требовалось до трех месяцев. Кроме мешков соли, скотоводы везли масло, творог, кожи, шерсть, мясо, скот, плоды женьшеня и щелок, которые обменивали на зерно, чай, седла, опоры палаток, шерстяную ткань, банки для масла, деревянные чашки и пр. Сравнительно зажиточные ежегодно привозили домой по 30–50 мешков ячменя, середняки – около десяти, бедные скотоводы часто не могли ехать сами и брали зерно у других, в долг. Ежегодно в торговле участвовало до 85 % скотоводческого населения, из которых менее половины возвращались домой с излишками зерна, а большинство – с количеством, достаточным лишь для самообеспечения [Там же. С. 98]. Обычно у каждого рода были относительно устоявшиеся маршруты и места обменов. Обмен мог проходить непосредственно с определенными крестьянскими дворами, дружескими или, часто, родственными, либо на ярмарках. Скотоводы предпочитали торговать с простыми крестьянами, поскольку феодалы, как правило, занижали цены на продукцию животноводства.
В качестве важных регуляторов хозяйственной деятельности выступали некоторые аспекты духовной культуры тибетцев. Считалось, что место, занимаемое одним племенем ( цзоба ), служит для совместного проживания людей, духов и животных. В центре находится священная гора, духи которой контролируют все живое, включая людей. Человек по воле духов должен заботиться об остальных живых организмах. Ежедневно заботясь о своих животных, кочевники создали феномен «совместного сосуществования человека и животных», при котором скот не забивали и не продавали, а шерсть, молоко и прочие продукты использовали для собственного потребления (исключение делалось только для мяса погибших животных). Такой обычай называется фаншэн («освобождение живого»). Одно из его проявлений – когда несколько животных отпускаются в дар духам после проведения соответствующего ритуала в монастыре, часто жертвоприношение совершается при болезни или смерти скотовода. Обычай фаншэн выступает своеобразным регулятором количества скота в традиционном обществе. Отдельные семьи весь свой скот держали как священный, другие посвящали духам от 1/ 3 до 1/ 10 стада, некоторые просто держали для этого одно-два животных. Большая часть скотоводов осуществляла частичный фаншэн. Поэтому одной их причин малого прироста поголовья скота у тибетцев на протяжении всей истории является цель содержания животных не только для обогащения, но и заботы о них.
Двумя поворотами, резко изменившими жизнь тибетских кочевников на территории современного Китая, стала сначала коллективизация в 1960–1970-е гг., а затем переход к рыночной экономике с начала 1980-х гг. До начала 1960-х гг. кочевое скотоводство ТАР не подвергалось каким-либо изменениям, лишь в крупных поселках строились ветеринарные пункты. В 1960 г. началась конфискация скота и пастбищ у крупных собственников, аристократии и монастырей. Пастбища были объявлены государственными, упразднена традиционная система их перераспределения. Первые группы коллективной взаимопомощи организовывались на основе тибетских рукор, поэтому легко были восприняты населением. Позже получило развитие кооперирование, также нормально воспринятое номадами, поскольку сохранялось право собственности на скот, осуществлялся совместный выпас и торговля. Производственной единицей по-прежнему оставалось индивидуальное хозяйство.
Политика в отношении тибетского скотоводческого населения, оказавшегося в других провинциях, была жестче. В 1950-е гг. под лозунгами «освоения отсталых районов» и «битвы с природой» началась массовая распашка естественных пастбищ. Особенно пострадал Цинхай. На месте бывших пастбищ организовывались госхозы (куда переселялись ханьцы), а кочевые сообщества призывались к достижению самообеспечения зерном [24. Р. 505–507]. К концу 1970-х гг. в пашню превратили 6,7 млн га степных угодий [2. С. 111]. По другим данным, в течение периода «большого скачка» и «культурной революции» было разрушено 6 млн га, а 40 млн га пастбищ серьезно пострадало [18. Р. 2]. Деградация таких полей не заставила себя долго ждать, в итоге сейчас правительство борется с разрушением растительного покрова, «черными пляжами» и пр. В середине 1960-х гг. земля и скот были коллективизированы, и номады стали работать в системе, которая распределяла вознаграждение независимо от объема работы («большая чашка риса»). По зачету рабочих баллов каждая семья получала примерно равную долю продукции; зерно выдавалось по ваучерам, полученным в зерновых бюро. Часть работников коммун отправлялась пасти скот на сезонные пастбища, остальные оседлые члены коммуны обязывались вести обработку молока, заготовку зимнего фуража и пр. Хотя каждое хозяйство было приставлено к определенному стаду, члены одной семьи могли быть разделены, особенно, если один из них выполнял другого рода работу, как, например, вождение транспорта [5. Р. 35]. Кочевников, пасших скот в удаленных районах, согнали в коммуны вблизи административных центров, заставив на два десятилетия покинуть родные места [19. Р. 41].
Через народные коммуны правительство проводило ряд мероприятий по интенсификации скотоводства, таких как ветеринария, улучшение породы и выращивание дополнительных кормов. Во многих районах пастбища были огорожены и зарезервированы для молодняка, маток, зимней пастьбы. Номады строили дома вокруг административного центра коммуны, хлева и загоны для общего скота [16. Р. 16–17]. В хозяйствах широко распространилась дополнительная подкормка скота, чего раньше не практиковалось в Тибете. Около зимнего жилища стали выделять небольшой участок под заготовку кормов (сено или бобы), которых хватает только для слабых, молодых и кормящих животных. Внедрение сельскохозяйственных машин не получило широкого распространения.
Таким образом, в период коллективизации сохранялись некоторые традиционные структуры и методы управления стадом, но сама хозяйственная система уже не могла называться кочевой [14. Р. 175]. «Культурная революция» не только разрушила основы хозяйства номадов, но и традиционную систему ценностей кочевого сообщества, в первую очередь, религиозную сферу. Лишившись своего традиционного личного хозяйства и религиозной опоры, кочевники утратили самоидентификацию. Более чем на десятилетие кочевничество в Китае перестало существовать как форма ведения хозяйства и как мировоззрение.
С 1981 г. в Тибете, как и по всей стране, началась деколлективизация, скот был возвращен индивидуальным хозяйствам по количеству членов семьи. Фактически вся земля коммун была разделена (на условиях долгосрочной аренды) между их членами независимо от пола и возраста, лишь в некоторых местах неработающим членам выделили 70 % от основного пая. Дети, родившиеся после 1981 г., уже не могли получить землю. Таким образом, у семей нет возможности увеличить свои земельные владения, так как нет купли-продажи земли. Были сняты фиксированные цены на продукты и возвращено право торговли; производственные задания стали вновь распределяться между членами семьи. Пастбища вновь стали использовать сообща, некоторые номады вернулись к традиционным небольшим группам – рукор , преобразованным в «ассоциации скотоводов» и кооперативы, за которыми и закрепили угодья; при распределении использовался жребий [8].
Отмена налогов для скотоводов до 1990 г. способствовала росту поголовья скота. В 1985 г. доля от прироста поголовья в стоимости сельскохозяйственной продукции в целом по стране составила 19,3 %, а в Тибете – 53 % [19. Р. 2]. С конца 1980-х гг. в китайской печати появилось большое количество публикаций по проблемам ухудшения экологии, деградации и эрозии пастбищ, что связывалось, в первую очередь, с перевыпасом скота. Другой причиной была названа непродуманная распашка большой части пастбищ под земледельческие угодья во времена авантюристических экспериментов Мао Цзэдуна. Китайские экономисты и экологи, как правило, довольно невысокого мнения о традиционной системе кочевого хозяйства, они прямо пишут об «отсталости» скотовода-кочевника. В этом подходе можно увидеть отголоски китаецентризма, в рамках которого все достижения других народов считались «варварскими». К сожалению, именно это течение является господствующим и признано официально. Для примера приведем цитату из сочинения, выпущенного под эгидой Госсовета КНР: «До 50-х годов XX столетия старый Тибет, где долгие века господствовал феодально-крепостной строй, характеризовался очень низким уровнем развития производительных сил, в основном находившихся на уровне приспособления к естественным условиям, в состоянии одностороннего потребления природных ресурсов. Естественно не могло быть и речи о каком-либо знании объективных законов экологической среды в Тибете, и тем более не могло быть и речи об экологическом строительстве и охране окружающей среды» [4]. Лишь в единичных публикациях китайские авторы справедливо отдают должное экологичности кочевого хозяйства, рациональности системы его управления (см., например: [32]).
Китайские исследователи отмечают, что проблема перевыпаса и деградации пастбищ не стояла раньше так остро, потому что уровень жизни населения был низок, часто происходили стихийные бедствия, высока была смертность среди людей и скота. Якобы с «освобождением» скотоводческих районов продолжительность жизни населения увеличилась, условия улучшились, резко начала расти численность населения. Как смогли китайские власти взять под контроль бушующую природу, непонятно, но увеличение прироста населения действительно имеет место наряду с повышением продолжительности жизни (согласно китайским данным, она выросла с 36 лет в 1951 г. до 65 в настоящее время). Также, по официальной статистике, начиная с 1949 г. в скотоводческих районах непрерывно росло поголовье скота.
Таким образом, в интерпретации большинства китайских специалистов ситуация такова: непрерывно растет численность неграмотных скотоводов, которые для поддержания своего существования постоянно увеличивают поголовье своего стада, варварскими методами нещадно эксплуатируют пастбища, не задумываясь о завтрашнем дне. Самым простым, напрашивающимся методом разрешения «противоречия между скотом и травой» для китайского правительства явилось снижение поголовья скота в скотоводческих районах, декреты о котором стали регулярно спускаться на места с середины 1980-х гг.
Американские исследователи М. Голдштейн и С. Билл в 1987–1988 гг. в течение 16 месяцев провели полевое исследование в районе Пхала, расположенном на северо-западе Тибета, в 480 км на от Лхасы, на высоте 4 850–5 400 м над уровнем моря. Населяющая эту территорию группа выбрана неслучайно, она является носителем традиционного типа тибетского кочевого хозяйства, ее пастбища не затронуты земледелием, ирригацией или удобрениями. Кочевники протестовали против применения к ним декрета о снижении поголовья на 20 %, спущенного правительством на основании данных о стабильном приросте поголовья с 1981 г. (3,3 % в год), который нарушил экологию района. В ходе исследования выяснилось, что данные статистики о росте поголовья были ложными. На деле в обозначенный период непрерывно шло ежегодное снижение численности скота, колеблющееся от 25 до 4 %. При этом некоторым пастбищам действительно угрожал перевыпас из-за упразднения в 1959 г. традиционной системы перераспределения. Большой урон хозяйству причинили проводившиеся беспорядочно переделы (в 1961 г. при внедрении «групп взаимопомощи», затем в 1969–1970 гг. при «коммунизации» и в 1981 г. при роспуске коммун). Сами скотоводы, как правило, не отмечали какого-либо изменения в состоянии пастбищ, а уменьшение численности личного стада считали нерациональным, так как год от года отличается, и природа сама регулирует его численность [10. P. 139–156].
Декреты о сокращении поголовья постепенно стали заменяться более радикальными мерами. В 1985 г. «Национальный закон о пастбищах» разрешил сдавать в аренду права пользования пастбищами. С 1992 г. власти приступили к определению имеющихся ресурсов па- стбищных участков, в соответствии с которыми скотоводы должны будут стимулироваться, зачастую наложением санкций, к ограничению размера стада соответственно этим ресурсам [11. Art. 45, 61, 67 et al.].
Помимо этого, в соответствии с правительственными директивами 1990-х гг. каждая скотоводческая семья Китая должна иметь зимнее жилище [13. Р. 157]. Это не встретило возражений со стороны населения, поскольку многие номады и не отказывались от своих зимних домов, построенных во время коммун. К тому же строительство получило большие государственные субсидии.
В конце 1980-х гг. в Цинхае правительство стало внедрять программу по седентеризации скотоводов, распределению пастбищ и закреплению их за индивидуальными хозяйствами. Затем в сферу действия программы включили скотоводческие (национальные) районы провинции Ганьсу, а в 1997 г. – провинции Сычуань. Ее реализация началась с зимних пастбищ, которые были сданы в долгосрочную аренду (30–50 лет). Право использования может наследоваться, но не может продаваться. Контракты на использование пастбищ могут заключаться как с индивидуальными хозяйствами, так и с группами хозяйств [11. Art. 13, 36; 12. Art. 12, 20]. Пастбища огораживались для демаркации границ; размер их зависел от биологических ресурсов, которые определялись правительством, и от численности стада семьи. Строительство домов, хлевов, огораживание, внедрение кормовых культур поддерживалось и субсидировалось центром в огромных масштабах (хотя экономическая рациональность этих мер отнюдь неоднозначна). После зимних пастбищ разделу подверглись оставшиеся сезонные пастбища. Также проводится реструктуризация стада в целях повышения производительности.
В отличие от остальных районов в ТАР пастбища были поделены не между хозяйствами, а между группами – сначала зимние, затем и летние. Масштабность проводимых мероприятий многократно усилилась в начале 2000-х гг., после принятия проекта «Строительство пастбищ и седентеризация кочевых скотоводов Тибета». Плановые сроки исполнения – 2001–2005 гг., за которые предполагалось построить 8 тыс. дворов для скотоводов, перешедших на оседлость. В ходе реализации проекта посажено на землю 48 тыс. кочевников. В течение первых четырех лет было построено 6 714 дворов (515 200 кв. м жилья), а также 343 500 кв. м утепленных стойл для скота, 862 500 кв. м загонов для скота, 65 000 кв. м хранилищ, 717 колодцев, организовано 53 400 га пастбищ. До конца 2004 г. центральное правительство инвестировало в программу 180 млн юаней, ТАР вложил 170 млн юаней. При проведении седентеризации придерживались принципа «малой концентрации, большой рассредоточенности» [29].
Огороженные пастбища (20–30 га) у индивидуальных хозяйств держатся в резерве в течение лета, подкормка выращивается на небольшом участке – около 0,5–2 га. В провинции Ганьсу условия специфичнее: на огороженном участке в 20 га деградированных пастбищ выращиваются травы для восстановления, а на дополнительном участке в 20 га, который удобряется, ведется выпас [17. Р. 93].
В основе введения этих программ лежит тезис о деградации плато, которая происходит вследствие «иррациональной» системы хозяйства, основанной на религиозных предрассудках. Соответственно получение участка в длительную аренду должно стать стимулом для бережного отношения к нему. Стремление номадов иметь большое стадо трактуется не как страховка от риска падежа, а как получение символа богатства.
Действительно, пастбища в земледельческих долинах Тибета крайне истощены, но ситуация в скотоводческих районах вовсе не так плоха, особенно в зоне кочевий, где пастбища находятся в отличном состоянии, несмотря на тысячелетнее использование. Поэтому проблема перевыпаса и деградации должна рассматриваться на локальном уровне, а не для Цин-хай-Тибетского плато в целом.
Политика деления пастбищ изначально ошибочна, поскольку основана на положении о том, что традиционная система не налагает на номадов ответственности за состояние пастбищ, и потому они стараются увеличить свои стада без учета ресурсов, а также на неправильных данных о росте поголовья скота в течение всего времени. Политика была подвергнута критике всеми специалистами по кочевым сообществам, кроме китайских.
Программа седентеризации уже проявила свои недостатки. Зачастую семьи получали участки без источников воды и вынуждены были арендовать участки у других. Огораживание пастбищ и строительство стало тяжелым финансовым бременем для большинства семей. К тому же экологи уже заметили ухудшение в производстве травы на огороженных участках [24. Р. 500; 14. Р. 176]. Резко сократилось передвижение скота между сезонными пастбищами, и возникло явление круглогодичного выпаса скота на небольших обособленных территориях. Особенно сильно страдают летние пастбища. Поэтому в некоторых тибетских районах приватизация летних пастбищ была приостановлена из-за явной иррациональности [22. Р. 16]. Сопоставительные исследования во Внутренней Монголии показали, что наибольший уровень деградации пастбищ отмечен в областях с низкой мобильностью скота. В целом степень мобильности больше влияет на состояние пастбищ, чем численность скота [21. Р. 1147].
В настоящее время на Тибетском плато существуют три основные модели пастбищного распределения и управления: 1) владения индивидуальных хозяйств с индивидуальной системой ответственности, созданием которых занимается правительство (затраты на огораживание хозяйства составляют 3 155 долл. США); 2) сочетание индивидуального владения и общественного соуправления (затраты на огораживание хозяйств составляют 1 220 долл. США); 3) традиционное групповое (общественное) владение и управление [20. Р. 86].
На бумаге деление пастбищ прописано как равное и справедливое, в реальности этот принцип постоянно нарушается. Ограниченные размеры пастбищ приводят к тому, что скотоводам приходится сокращать стада или арендовать землю у других. На многих индивидуальных участках отсутствует доступ к водным источникам, а развитие водоснабжения очень дорого. Поэтому скотоводам часто приходится долго идти к рекам, что порождает деградацию берегов. Падеж скота снизился за счет выделения резервных пастбищ, но себестоимость их содержания очень высока и постоянно нуждается в правительственных субсидиях. Хотя стал доступен ветеринарный сервис, возросла изолированность хозяйств в удаленных зонах. Также ошибочным оказалось положение о том, что демаркация границ пастбищ уменьшит конфликты, которые еще более обострились, к ним прибавились споры из-за водных источников. Повышение доступа к рынку также неоднозначно. Большинство семей захотело держать свой молочный скот ближе к дорогам и пунктам сбора молока, что увеличило давление на эти земли.
В целом проводимая политика предполагает преобразование номадов в фермеров, занятых коммерческим животноводством [16. Р. 16–17]. В то же время сохранились так называемые природные деревни, на которые пастбищный закон не распространяется, и они могут сами устанавливать правила управления. В некоторых районах группам до 10 хозяйств разрешено объединить их пастбища для общего пользования и коллективного управления, при этом не отменяя индивидуальные права на скот и на хозяйственную самостоятельность.
Проводимая политика дала определенный шанс бедным слоям, которые могут теперь извлекать доход из своих участков. Вообще проблеме бедности в скотоводческих районах правительство уделяет большое внимание, выделяя для ее решения немалы инвестиции. При этом многими китайскими исследователями отмечается низкая эффективность проводимых мероприятий. Как правило, те семьи, которые были зажиточными в «старом обществе», вновь стали зажиточными, тогда как бедняки, хотя и имели равные стартовые условия после деколлективизации, так и остались бедняками, несмотря на субсидии государства. В натуральном выражении порог бедности составляет 25 единиц скота на человека, эквивалентных овце (один як считается за 5 овец). Если на члена семьи приходится менее 25 единиц скота, то семья не способна удовлетворить свои жизненные потребности без дополнительного дохода и находится в бедности. В качестве реакции общества на расслоение приводится история одной бедной деревни, которая решила «бороться с бедностью» путем преобразования в коммуну [31. С. 26, 57].
В устав одного скотоводческого объединения включено большое число общественных работ, за уклонение от которых (включая статью «под предлогом религиозных праздников») налагаются денежные штрафы, никому не разрешается свободный переезд, предписывается выставление скота на рынок при фиксированных ценах. Содержание этого документа заставляет задуматься над степенью рыночности хозяйства современного тибетского кочевника, о которой пишет китайская пресса.
Конфликты из-за пастбищ между тибетцами существовали задолго до 1951 г. и обострились после введения нового административного деления, иногда разделявшего на части одно племя. Это дало начало тяжбам ТАР с Сычуанью, Синьцзяном, Цинхаем, Цинхая с Ганьсу,
Ганьсу с Хэнанью. Конфликты длились годами и десятилетиями, порой переходя в вооруженные столкновения. Китайские власти зачастую оставляли просьбы тибетцев разрешить их пастбищный конфликт без внимания и предпочитали не вмешиваться или же в критической ситуации вводили войска и переселяли враждующих. В хаосе «культурной революции» конфликты стали еще более кровопролитными. Межевые споры обычно разрешали монастыри при фактическом бездействии администрации, не обладавшей необходимым авторитетом. Зачастую власти сами просили авторитетных лам (включая Панчен-ламу) о помощи в разрешении конфликтов.
Разделение пастбищ и огораживание сеткой обострило жесткость конфликтов из-за границ, снизило гибкость в придвижении скота. Например, раньше во время снегопадов скотоводы могли подняться выше в горы, уменьшив, таким образом, падеж скота, но распределение пастбищ сделало этот маневр не всегда возможным. В районе Амдо абсолютное большинство скотоводов было недовольно программой разделения пастбищ. Часто повторялось, что «распределение пастбищ разрушило наше единство». Местные власти не способны разрешать эти конфликты, ответственность за которые чиновники возлагают на религиозных лидеров [24. Р. 501, 505–507].
Со времени деколлективизации тибетские скотоводы все больше стали выходить на рынок со своей продукцией. С начала 1980-х гг. они начали открывать для себя другие отрасли хозяйства, источники доходов стали разнообразнее. В качестве характерного примера можно привести данные по кочевникам волости Яоця, среди которых проводилось специальное обследование (табл. 3; 4 3 ). Рост денежных доходов сдерживается тем, что в Китае возникли сложности с рынком продукции номадов, поскольку в рационе китайцев говядина и молочные продукты занимают небольшой объем, хотя в настоящее время имеется тенденция к повышению их доли.
С появлением рынка появляется и конкуренция. Скотоводы стали подстраивать хозяйства под требования рынка, например держать больше коз. В 2000 г. цены на пух составили около 150 юаней за 0,5 кг (рыночный цзинь), увеличившись в 10 раз по сравнению с концом 1980-х гг., притом, что цена на овечью шерсть осталась неизменной. Так как цены на кашемир на международном рынке постоянно растут, государство решило взять это направление под свой контроль с помощью квот на обязательные госзакупки (квоты рассчитывает местная администрация по числу голов скота; только после их выполнения можно продавать шерсть торговцам, цены которых гораздо выгоднее). За невыполнение довольно высоких квот скотоводам грозят административные наказания. Это еще один пример противоречий в развитии рыночной экономики в Тибете [19. Р. 44–45]. К этому можно добавить, что хотя правительство и ограничивает натуральный обмен, он все еще сохраняется в некоторых местах. Например, в 1999 г. в одном из магазинов уезда Линьчжоу 0,5 кг соли меняли на 0,5 кг ячменя, 0,5 кг чая – на 1,5 кг ячменя, 0,5 кг риса – на 1 кг ячменя, 0,5 кг мяса – на 3 кг ячменя, 0,5 кг масла – на 7,5 кг ячменя [25. С. 16].
Коэффициент товарности производства волости Яоця (1986–1994 гг.)
Таблица 3
|
Вид продукции |
Единица |
1986 |
Товарность (%) |
1990 |
Товарность (%) |
1994 |
Товарность (%) |
|
Мясо яка, баранина |
0,5 кг |
153 405 |
57,0 |
177 164 |
26,3 |
573 005 |
47,7 |
|
Овечья шерсть |
0,5 кг |
42 033 |
92,6 |
76 290 |
87,0 |
93 936 |
89,4 |
|
Козья шерсть |
0,5 кг |
1 041 |
98,0 |
1 210 |
7,2 |
447 |
27,5 |
|
Козий пух |
0,5 кг |
447 |
100,0 |
1 772 |
84,0 |
1 564 |
100,0 |
|
Ячья шерсть |
0,5 кг |
811 |
19,0 |
2 848 |
29,0 |
848 |
54,2 |
|
Ячий пух |
0,5 кг |
722 |
100,0 |
1 692 |
17,0 |
7 137 |
75,0 |
|
Ячьи шкуры |
шт. |
540 |
84,0 |
779 |
42,0 |
1 149 |
47,2 |
|
Овечьи шкуры |
шт. |
2 914 |
62,0 |
1 612 |
18,7 |
6 031 |
37,6 |
|
Шкуры ягнят |
шт. |
3 067 |
97,0 |
224 |
3,2 |
831 |
14,5 |
|
Масло |
0,5 кг |
807 |
2,1 |
1 535 |
3,4 |
– |
– |
3 Таблицы составлены по: [36]
Таблица 4
|
Вид занятий |
1986 |
1987 |
Изменение (%) |
1990 |
Изменение (%) |
1994 |
Изменение (%) |
|
Всего |
25 595,2 |
29 434 |
14,9 |
70 561,5 |
139,7 |
139 089 |
41,4 |
|
Транспорт |
14 685,2 |
20 000 |
26,6 |
27 064,0 |
35,3 |
78 842 |
43,1 |
|
Ремесла Торгов- |
2 478,2 |
1 500 |
–39,5 |
5 610,0 |
274,0 |
30 143 |
200,0 |
|
ля, общепит |
– |
584 |
– |
5 873,0 |
90,6 |
9 628 |
11,5 |
|
Охота |
8 432,0 |
982 |
–88,4 |
1 749,0 |
78,1 |
– |
– |
|
Другие отрасли |
– |
6 368 |
– |
30 265,5 |
375,3 |
20 476 |
14,7 |
Доходы скотоводов волости Яоця от других видов занятий (1986–1994 гг.)
Однако в целом воздействие рыночной экономики с каждым годом становится все более заметным. Благодаря внешним стимулам значительные изменения происходят не только в способе ведения хозяйства, но и в материальной и духовной культуре тибетцев. Так, многие из них переселяются в типовые блочные дома, построенные за счет правительства, хотя большинство сталкивается с трудностями перехода к совершенно новому образу жизни. В одежде пожилые тибетцы предпочитают традиционное платье, никогда не носят целого современного костюма, хотя рубахи и брюки используются, как повседневная одежда. Раньше обувь делали сами, теперь в большинстве покупают на рынке, экономя трудовые затраты. Мужчины, как правило, носят калоши (удобные при ходьбе по горам; недаром эта специфическая обувь также широко использовалась в Афганистане), в каждой семье есть несколько пар. Стал меняться фасон одежды, изготовленной из привозных тканей, появились платья без традиционных длинных рукавов. В целом, одежда мужчин из-за фактора «удобства» претерпела гораздо большие изменения, чем женская [39. С. 302]. С начала 1980-х гг. началось широкое распространение китайской одежды. Украшением мужчины раньше считались ножи и ружья, теперь популярны наручные часы [26]. Структура питания в основном осталась та же. Существенно увеличилось потребление чая, что является показателем повышения доходов населения. Например, в начале 1990-х гг. годовое потребление чая на душу населения в районе Амдо выросло по сравнению с концом 1950-х гг. почти на 95 % [36]. Все население использует теперь рисовую муку, а также покупает напитки и фрукты. Изменилось отношение к овощам, которые раньше скотоводы презрительно относили к «траве». Весной и летом, когда нет мяса, в качестве дополнительных продуктов в рационе используются картофель, морковь, капуста, перец.
Согласно исследованию волости Яоця в Амдо, в 1994 г. у 17,38 % населения были моторные транспортные средства – мотоциклы, тракторы, грузовики; с развитием транспорта развиваются и контакты скотоводов с внешней средой. Мотоциклы, которые стали символом статуса для молодежи, заменяя тем самым лошадей, в производстве не используются и служат для поездок на ярмарки и перевозки грузов. Распространяются также и велосипеды. Из бытовой техники появились радиоприемники, магнитофоны, швейные машинки, бинокли, газовые горелки, скороварки, фотоаппараты. Во многих палатках есть солярные панели, электричества от которых хватает на лампочку и радио. Появились матрасы, печи, доильные аппараты.
Возникло невиданное до сих пор понятие ценности времени и его рационального распределения, поэтому многие скотоводы впервые обзавелись наручными и настенными часами. В волости Яоця у 76 % из опрошенных 46 хозяйств имелись наручные часы, у 39,13 % – настенные [Там же]. Многие скотоводы стали соотносить указанные товары с символами успеха, и они хотят продавать дополнительный скот для обеспечения престижного потребления. С каждым годом все больше молодых тибетцев едут в города заниматься торговлей, все больше групп оседает вблизи городов, основывая современные коммерческие животноводческие хозяйства. Благодаря проводимой седентеризации перед кочевниками открылись раз- личные перспективы, и молодежь чаще всего не связывает свое будущее со скотоводством. Еще в 1960-х гг. некоторые скотоводы украшали свою палатку бумажными деньгами, не зная их ценности. А когда они получали часть своей доли в коммуне деньгами, то сразу направлялись в магазин покупать товары, не желая хранить их дома или в банке. С начала 1990-х гг. номады предпочитают копить деньги, чтобы с большей выгодой потратить их на ярмарке. Однако многие хранят верность традиции и не хотят продавать свой скот на китайские скотобойни 4.
К концу 1990-х гг. практически все номады обзавелись домами и хлевами для скота, расположенными, в основном, на зимне-весенних пастбищах, где они могут проводить до 6–7 месяцев в году, периодически совершая кочевки со скотом к удаленным пастбищам. Пастбища огораживаются, выращиваются дополнительные корма. Таким образом, можно сказать, что большинство скотоводов перешло на оседлый образ жизни, но продолжает пасти свой скот согласно кочевым традициям [15. Р. 16–17]. Способ хозяйствования и образ жизни номадов продемонстрировали способность к возрождению после, казалось бы, полного забвения; а целый ряд традиций и навыков оказался вполне совместимым с современной жизнью, способствуя плавной адаптации к изменившимся условиям значительной части населения «Большого Тибета».