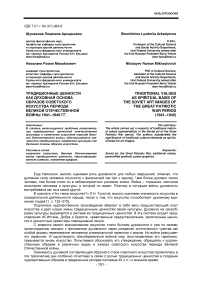Традиционные ценности как духовная основа образов советского искусства периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Автор: Шумихина Людмила Аркадьевна, Николаев Роман Михайлович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 6, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется проблема репрезентации традиционных ценностей отечественной культуры в советском искусстве периода Великой Отечественной войны, обосновывается значимость традиционных элементов культуры как духовной основы образов искусства.
Советское искусство, великая отечественная война, традиционные ценности, персонифицированные символы, плакатная графика
Короткий адрес: https://sciup.org/14934455
IDR: 14934455 | УДК: 7.01.+
Текст научной статьи Традиционные ценности как духовная основа образов советского искусства периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Еще Наполеон, высоко оценивая роль духовности для любых свершений, отмечал, что духовная сила человека относится к физической как три к одному. Чем более духовно силен человек, тем более стоек он в неблагоприятных условиях жизни. Война – страшное, жестокое испытание человека и культуры, в которой он живет. Поэтому в ситуации войны духовность востребована как ни в какой другой.
В трактате «Что такое искусство?» Л.Н. Толстой, высоко оценивая значимость искусства в созидательной деятельности народа, писал о том, что искусство способствует духовному единению людей [1, с. 135-279].
Подлинное художественное произведение вбирает в себя весь предшествующий опыт искусства и дает новую жизнь традиционным ценностям своей культуры. Духовное же своеобразие культуры выражается в системе ее традиционных ценностей. В эту систему входят представления об Истине, Добре и Красоте, нравственные предустановления, религиозные ценности и ценностные ориентиры повседневной жизни.
С момента своего возникновения искусство стало бытием духовности и уже по своему происхождению связано с феноменом духовности через рождение эстетического чувства как особой формы переживания человеком универсальной гармонии с миром. Но война разрушает эту гармонию. И одухотворить обезображенный войной мир, восстанавливая его гармонию, призывается вновь искусство. Попытаемся обосновать это утверждение, обращаясь к художественным образам в различных видах и жанрах советского искусства периода Великой Отечественной войны.
Значимость духовной составляющей образного строя советского искусства проявлялась в эти трагические дни особенно отчетливо в связи с ролью традиционных ценностей в создании художественных образов в предвоенное (вторая половина 30-х гг.) и военное время.
- 151 -
С началом Великой Отечественной войны Советский Союз противопоставил тотальной войне на уничтожение, ведущейся на его территории нацистской Германией, концепцию войны Отечественной . Именно с этим обстоятельством и связана востребованность с первых дней войны традиционных культурных образов, знаков, символов, во многом забытых или уничтоженных до войны.
Первоочередную значимость в возрождении традиционных ценностей, воплощенных в художественных образах этого периода приобретают традиционные персонифицированные символы свершений и побед в истории России. В предвоенный и военный период советский взгляд на персоналии прошлого, репрезентованный в кинематографе, живописи, историческом романе, «характеризуется высоким пиететом к “историческим личностям”, что было определено характером власти в эпоху, впоследствии обозначенную как “период культа личности”» [2, с. 33].
Начать рассмотрение значимости традиционных персонифицированных символов имеет смысл с использования их в самом массовом и «самом важном из искусств» – кинематографе. В декабре 1935 г. на съезде советских кинематографистов, ведя речь о неизбежности будущей войны, режиссер А.П. Довженко заявил следующее: «Нужно готовить наше оружие к бою… Вот почему я утверждаю, дорогие друзья, я призываю вас к утверждению оборонной тематики» [3, т. 1, с. 83]. Полагаем, что от этого выступления можно вести отсчет изменениям самого жанра историко-патриотического кино. Первым фильмом с изменившимся отношением к прошлому стала лента В.М. Петрова «Петр I», где кардинально изменилось отношение к главному герою.
Царь представал в образе прогрессивного деятеля, державостроителя, укрепителя государства Российского» [Там же, с. 104-105.]. Начиная с этой картины, на экран вышли фил ь-мы с доминирующей патриотической тематикой: «Минин и Пожарский» (1939), «Суворов» (1940), «Богдан Хмельницкий» (1941). Появились фильмы, не только посвященные военной тематике, но и затрагивающие проблемы осмысления предыдущего развития отечественной культуры, например, фильм «Первопечатник Иван Федоров» (1941). Вернувшись в советскую культуру через кино, «исторические лица» – прежде всего цари, князья, военачальники – выглядят сплошь «собирателями и защитниками русского государства», людьми небывалой отваги, государственной мудрости и политической дальновидности» [4, с. 35]. В данных образах нетрудно проследить черты, которыми советская пропаганда в современное ей время наделяла «вождя народов».
Но особенно хотелось бы здесь выделить фильм 1938-го г. «Александр Невский» С.М. Эйзенштейна. Картина актуализировала противоборство двух режимов, начавшееся в середине 30-х гг. XX в. По всей видимости, не случайно был выбран и главный герой – победитель немецких рыцарей, образ, формирующий ценностно-традиционную установку в контексте тогдашней политической ситуации. В результате в советской культуре «происходит возврат – на новом уровне – к «доистории» – мифу, всегда адаптирующему индивида к природному и социальному целому» [5, с. 37]. Тем не менее представляется необходимым отметить, что замысел создателей фильма «Александр Невский» выходил за установку создания типичной советской картины на историческую тему, она, как отмечает О. Юмашева, несла в себе «не столько авангардно-советский (хотя и его тоже), сколько внеэволюционный заряд, заряд классической культуры, если под последней мы условимся понимать круг идей, приемов и знаков, сложившихся в сознании российского общества к 1908–1912 гг.» [6, с. 101].
Известно, что власть задает определенную, выгодную ей (зачастую мифологическую), коннотацию образов прошлого. Образ Александра Невского как образ русского героя и воина получает широкое распространение в советском патриотическом дискурсе и в довоенный период, и во время войны. А. Невский как бы «становится фигурой отца, не только тесно связанного с народом, но и возвышающегося над подданными» [7, с. 278]. Такой образ являлся привлекательным для власти в ситуации культа личности, так как наблюдалось сходство такой фигуры с пропагандировавшимся образом Сталина.
Существует мнение, что противостояние двух культур в войне 1941-1945 гг. выходило за рамки просто схватки двух тоталитарных режимов, что оно также во многом являлось традиционным: «Поражение немцев на Чудском озере 5 апреля 1242 г. отсрочило их наступление на Восток – Drang nach Osten – которое было лейтмотивом немецкой политики с 1202 по 1941 год» [8, с. 123]. К тому же в своей риторике Гитлер позиционировал военную компанию на Востоке как «западный крестовый поход против языческого большевизма, по аналогии с походом знаменитого германского императора Фридриха I. Первоначально план нападения на СССР назывался «Фриц», а название «Барбаросса» указывало на стремление Гитлера придать восточной кампании характер Крестового похода» [9, с. 132-133].
В 1941 г. нацисты, говоря о вторжении в Россию, делали акцент на собственной воинственной традиции, например, Й. Лессер отмечает, что слова, посвященные России, из книги
Гитлера «Майн Кампф» после 22 июня стали частой цитатой в немецкой военной среде: «Новый поход немцев – это дело нашего фюрера, фюрера всех немцев. Теперь граница Восточной Европы навсегда станет безопасной. Завершается история длительностью в три тысячелетия. Готы снова на коне, и каждый из нас – доблестный германский воин» [10, с. 236]. В нацистской пропаганде и в целом во всей художественной культуре Германии тема «похода на Восток» обыгрывается с помощью национальных воинственных традиций. Стоит также отметить, что, подобно Александру Невскому, в Германии одним из главных, широко представленных в культуре персонифицированных символов становится Фридрих Великий.
Вторым после кино характерным примером широкого включения элементов традиции именно в советское искусство является плакатная графика, появившаяся в первые дни войны, где в рамках социалистического реализма ярко прослеживались элементы возвращения к персонализированным патриотическим символам русской культуры. Как отмечает М.А. Чегодаева: «Иными были не формальные качества живописи, театра, литературы, кинематографа – иным было мироощущение военной эпохи» [11, с. 129]. Так, советский плакат военного периода часто использует образы и события дореволюционной истории как символическую духовную основу в целях реконструкции самоидентификации человека, предполагая ее соотнесенность с дореволюционной историей.
Необходимо отметить одну, свойственную именно плакату Великой Отечественной войны, особенность – в одном произведении могли присутствовать сразу несколько персонифицированных образов, причем, образов различных эпох. Прокомментировать эту особенность плакатной графики в эстетическом ключе можно следующим образом. Произведение искусства – это бытие реального духовного мира в варианте персонифицированного бытия художника. Но для того, чтобы в мире, созданном воображением художника, можно было «жить», чтобы состоялась сопереживание созданного духовного мира, эта художественная реальность должна содержать нечто, позволяющее состояться со-бытию. Это нечто – смыслы мира реального, современного, его переживания, чувства, смысложизненная проблематика. Этим и объясняется полиобразность плакатной графики 1941-1942 гг. На основе специфики образности можно выделить следующие виды плакатов периода 1941–1942 гг.:
-
1. Изображение древнерусских героев на заднем плане и советских солдат, идущих в атаку, причем первые показаны как, скорее, нематериальные объекты, образы, стоящие перед глазами современных воинов и вдохновляющие их. Примером могут являться плакаты В.С. Иванова «Нет такой силы, которая бы поработила нас»» (1941), «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» (1941), «Лучше честная жизнь, чем позорная смерть» (1941), В.И. Говоркова «Славна богатырями земля наша» (1941).
-
2. Совместное изображение древнерусских героев, героев императорской России или Войны 1812 г., героев революции на заднем (материально как бы незримом) плане и советских солдат на переднем. Здесь стоит отметить синтез персонифицированной ценностной составляющей дореволюционной традиции и ценности молодой советской культуры (новации), которая на изображении уже также становится равнозначной трем первым в ключе воздействия на самоидентификацию современных солдат. Например, плакат Кукрыниксов «Бьемся мы здорово, колем отчаянно, внуки Суворова, дети Чапаева» (1941).
-
3. Изображение на заднем плане произведения искусства, символизирующего либо культурную эпоху, либо героическое прошлое (скульптура Пушкина, памятник на Бородинском поле) и солдат, идущих на фронт, на переднем плане. Пример тому: Кукрыниксы «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» (1942), П.П. Соколов-Скаля Окно ТАСС № 444 «России двинулись сыны» (1942).
-
4. Изображение поверженных врагов разных эпох, как прошлого, так и современности, подтверждающих славные страницы истории русского оружия. Классический пример – Кукры-никсы: «Наполеон потерпел поражение. Тоже будет и с зазнавшимся Гитлером!» (1942), «Так было… Так будет!» (1941).
Представляется интересным упомянуть и встречающийся в советском плакате образ врага в виде змеи или змееподобного дракона – персонифицированного зла в традиции русской иконы. Как известно, слова «гад», «гадина» подразумевают не только само пресмыкающееся, но и обозначают что-то отталкивающее, отвратительное в более широком смысле. Примером могут являться плакаты Д.А. Шмаринова «Раздавите фашистское чудовище» (1941), А.А. Коко-рекина «Бей фашистского гада» (1941), украинский плакат «Знищино гадину» («Убей змея», 1941) и других.
В упоминавшихся плакатах В.С. Иванова, как правило, помимо самого изображения присутствует текст фразы, принадлежащей кому-либо из героев прошлого, и неизменная цитата Сталина, присутствующая в каждом плакате: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужествен- ный образ предков». Несмотря на то, что выделяется (как бы «первична») фраза героя прошлого, слова Сталина довольно красноречиво дают понять, что современная власть никуда не устраняется из изображенной картины прошлого и современности, напротив, она, в свою очередь, как бы задает курс, направляет развитие данного диалога.
Полиобразность плаката в большой мере способствовала обновлению культурной идентичности советского народа, в особенности, в военный период. Можно сказать, что из предложенной классификации наиболее эффективно воздействовали на сознание человека именно плакаты, где в труднейший для страны час «собрались вместе» образы героев дореволюционного прошлого и более привычных героев гражданской войны. Спустя многие годы, ветераны вспоминали, что короткие, ясные слоганы советского плаката прочно врезались в память: «Появились агитплакаты с иллюстрациями и стихами, я помню такое четверостишие: «Бьемся мы здорово, рубим отчаянно, внуки Суворова, дети Чапаева» [12, с. 107].
Традиционные ценности репрезентировались не только в виде персонифицированных символов. С началом войны тема Родины, связи с предками в ее традиционном понимании, далеком от идеологической составляющей, зазвучала все более отчетливо и в отечественной литературе. В литературном языке заметны интонационные изменения, не характерные для предыдущих двух десятилетий развития советской культуры. А исчезнувшие из русской речи слова, например такие, как «молитва», «Бог», «крест», «милосердие» и тому подобные, вновь обретают свой подлинный смысл и право «быть» в советском искусстве. Именно в тяжелейшем 1941-м К.М. Симонов напишет свое знаменитое «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», где будут такие строки:
Как будто за каждою русской околицей, Крестом своих рук ограждая живых, Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся За в Бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки родина -Не дом городской, где я празднично жил, А эти поселки, что дедами пройдены, С простыми крестами их русских могил [13, с. 210].
Нельзя не обратить внимания, что в эпоху тяжелейших испытаний в искусстве появляется «эпохально-национальное» (В. Кандинский), как духовный исток, основа самого художественного образа, вбирающая особенности души народа, нации. Яркий пример тому – «Василий Теркин» – гениальная поэма, воплощавшая дух нации в роковой для народа час. Столь же эпохально-национальны и многие военные песни. И как никто услышал и воплотил эпохальнонациональное этого периода Дмитрий Шостакович. Седьмая и Восьмая симфонии, Вторая соната для фортепиано Шостаковича – это художественные памятники эпохе «войны народной». О роли эпохально-национального в искусстве прекрасно сказал Георгий Свиридов: «Великое искусство духовно… Художник “поет народ”, народную жизнь, он явление органическое народной жизни, несущее в себе ее дух, то чем живет нация» [14, с. 171].
Обращение к традиционным ценностям представляется необходимым в условиях, когда становится понятно, что молодая советская культура (при всех достижениях последней) не обладает устойчивым духовным потенциалом для успешного противостояния чужой культуре в момент их столкновения. Культура не может развиваться без удовлетворения такой неотъемлемой антропологической черты человека, как потребность в передаче опыта, обучении у тех героев прошлого, которые на протяжении истории культуры в качестве личностей-символов пополняли ее ценностную систему.
Подведем итог сказанному. Использование в искусстве периода войны традиционных, персонифицированных символов и иных знаково-символических образов объясняется тем, что каждый такой знак обладает особой устойчивостью в культурной памяти народа, даже если его историческое прошлое и неоднозначно, но здесь и сейчас, в условиях, близких к критическим, он декларируется как несущий экзистенциональный и эстетический (гармонизирующий этот разрушенный мир) смыслы. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что традиционные ценности в ситуации войны являются остро востребованными, в результате чего и становятся духовной основой художественных образов в различных видах и жанрах искусства.
Ссылки:
-
1. Толстой Л.Н. Что такое искусство? М., 1985.
-
2. Добренко Е. Соцреализм в поисках «исторического прошлого» // Вопросы литературы. 1997. № 1.
-
3. Раззаков Ф.И. Гибель советского кино. Интриги и споры 1918-1972. М., 2008.
-
4. Добренко Е. Указ. соч.
-
5. Там же.
-
6. Юмашева О. Александр Невский в контексте евразийской рефлексии // История страны. История кино. М., 2004.
-
7. Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти. М., 2007.
-
8. Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории. М., 2002.
-
9. Пленков О.Ю. Тайны Третьего Рейха. Гладиаторы» вермахта в действии. М., 2010.
-
10. Цит. по: Лессер Й. Третий Рейх. Символы злодейства. М., 2010.
-
11. Чегодаева М. А. Соцреализм. Мифы и реальность. М., 2003.
-
12. Премилов А.И. Нас не брали в плен. Исповедь политрука. М., 2010.
-
13. Симонов К.М. Стихотворения и поэмы. Пермь, 1976.
-
14. Свиридов Г. Мир Свиридова // Наш современник. 2003. № 6.
Список литературы Традиционные ценности как духовная основа образов советского искусства периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
- Толстой Л.Н. Что такое искусство? М., 1985.
- Добренко Е. Соцреализм в поисках «исторического прошлого»//Вопросы литературы. 1997. № 1.
- Раззаков Ф.И. Гибель советского кино. Интриги и споры 1918-1972. М., 2008.
- Юмашева О. Александр Невский в контексте евразийской рефлексии//История страны. История кино. М., 2004.
- Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти. М., 2007.
- Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории. М., 2002.
- Пленков О.Ю. Тайны Третьего Рейха. Гладиаторы» вермахта в действии. М., 2010.
- Лессер Й. Третий Рейх. Символы злодейства. М., 2010.
- Чегодаева М. А. Соцреализм. Мифы и реальность. М., 2003.
- Премилов А.И. Нас не брали в плен. Исповедь политрука. М., 2010.
- Симонов К.М. Стихотворения и поэмы. Пермь, 1976.
- Свиридов Г. Мир Свиридова//Наш современник. 2003. № 6.