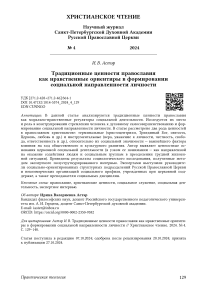Традиционные ценности православия как нравственные ориентиры в формировании социальной направленности личности
Автор: Астэр И.В.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Практическая теология
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье анализируются традиционные ценности православия как морально-нравственные регуляторы социальной деятельности. Исследуется их место и роль в конструировании стремления человека к духовному самосовершенствованию и формированию социальной направленности личности. В статье рассмотрено два рода ценностей в православном христианстве: терминальные (христоцентризм, Триединый Бог, святость, Церковь, любовь и др.) и инструментальные (вера, уважение к личности, честность, свобода, ответственность и др.), относительно их социальной значимости - важнейшего фактора влияния на ход общественного и культурного развития. Автор выявляет ценностные основания церковной социальной деятельности (в узком ее понимании - как направленной на оказание содействия людям и социальным группам в преодолении трудной жизненной ситуации). Приведены результаты социологического исследования, полученные методом экспертного полуструткурированного интервью. Экспертами выступили руководители социально-ориентированных структурных подразделений Русской Православной Церкви и некоммерческих организаций социального профиля, учрежденных при церковной поддержке, а также преподаватели социальных дисциплин.
Православие, христианские ценности, социальное служение, социальная деятельность, экспертное интервью
Короткий адрес: https://sciup.org/140308062
IDR: 140308062 | УДК: [271.2-428+271.2-46]:364-1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_4_129
Текст научной статьи Традиционные ценности православия как нравственные ориентиры в формировании социальной направленности личности
Социальное регулирование и ценностно-нормативная система
Общественная деятельность в целом и личная социальная активность в частности обязательно, положительно или отрицательно, коррелируют с ценностными ориентирами. В данном исследовании под ценностями мы будем понимать убеждения человека в значимости лично для него некоторого объекта или явления, идеального или материального характера, ради достижения которого он прилагает большие или меньшие усилия. Ценностно-нормативная система является важнейшей составной частью любой общественной культуры. Теоретическое знание и практический опыт приводят к установлению в обществе определенного комплекса социальных ценностей как базиса морально-нравственных принципов, на котором, в свою очередь, выстраиваются цели, к которым стремятся люди. Такая платформа становится основой для выработки обязательных для всех правил и принципов деятельности — социальных норм, закрепленных в правовых документах и в общепризнанных моральных нормах, в естественном праве и регулирующих поведение и взаимоотношения людей в обществе. Своеобразие культуры того или иного общества проистекает именно из социальных норм, правовых и моральных регуляторов, передающихся из поколения в поколение. Основой для поддержания этой своеобразной культуры, вписанной в контекст истории, является религия, наполняющая свод ценностно-правовых нормативов сакральным содержанием. Так, основание российской культуры составляют ценности, на которых зиждется христианство. Специфическую особенность современной отечественной культуры отчетливо выделил президент России В. В. Путин. В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, проходившего с 5 по 8 июня 2024 г., он сказал: «Мы по определению в известной степени становимся центром традиционной европейской культуры и традиционных европейских ценностей, которые, если... посмотреть вглубь веков, основаны даже для неверующих людей… прежде всего на христианской культуре» [Путин, 2024].
Действительно, в настоящее время христианские ценности влияют не только на жизнь и деятельность отдельных конфессиональных сообществ, но во многом определяют функционирование основных институтов российского общества. В общеобразовательных учреждениях введена дисциплина «Основы религиозной культуры и светской этики», в светских высших учебных заведениях прочно заняло свое место преподавание теологии и религиоведческих дисциплин, многие родители направляют детей на дополнительное образование в воскресные школы, открытые при большинстве храмов. В армии, больницах, реабилитационных центрах, сиротских учреждениях, ночлежках и тюрьмах священники духовно окормляют верующих и проводят просветительские занятия. В основу целого ряда профессиональных этических кодексов Российской Федерации заложены некоторые христианские принципы. Специалисты и руководители разных направлений деятельности, выбирая христианские ценности как нравственные ориентиры, формируют профессиональные сообщества: православных предпринимателей, психологов, педагогов и др.
Для упрочнения и развития конфессиональной социальной деятельности 9 ноября 2022 г. президент России подписал указ об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей (Указ, 2022), являющийся одним из базисных нормативных документов в деле самосохранения и дальнейшего развития нашего общества. В нынешней ситуации, когда Россия вынуждена постоянно отражать недружественные внешние атаки на отечественные ценности, а сами понятия «традиция» и «традиционность» в современном обществе нередко становятся объектом критики или абсолютного неприятия, вопрос обеспечения безопасности граждан нашей страны посредством разработки нормативного документа крайне важен. Если в традиционном, малодифференцированном обществе, где каждый человек был включен во все функционирующие в государстве социальные институты, Церковь могла беспрепятственно донести свою весть, то в сложном, многополярном современном социуме индивид не способен стать частью всех без исключения многочисленных социальных устроений, в том числе религиозных, поэтому христианским ценностям все сложнее стать ориентирами, которые бы сформировали мировоззрение россиян и проникли в сердце и душу каждого. В указе «О сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей» признается вклад христианства, ислама, буддизма, иудаизма в построение ценностнонормативной системы российской культуры, при этом подчеркивается особая роль православия в формировании традиционных ценностей.
Таким образом, данный документ утверждает: традиции — это не некая архаика. Когда мы говорим о духовно-нравственных традициях, то подчеркиваем вечные и неизменные ценности. При их отрицании мы становимся безоружными перед огромным потоком информации, приводящей к конформизму мышления и превращающей нас в объект манипулирования в постоянно трансформирующемся обществе XX-XXI вв. Казалось бы, человек, приходящий в этот мир, появляется на свет как абсолютно неповторимая, не похожая ни на кого личность. Под воздействием внешних обстоятельств и окружающих его людей он начинает копировать чье-то поведение, теряя свою индивидуальность. К тому же нынешние информационные технологии оказывают беспрецедентное давление на человека, унифицируя его мышление, заставляя приспосабливаться к окружающей среде. Индивид теряет уверенность в себе, становится зависимым, беспомощным, обезличенным. И нам сложно разобраться в том, что сейчас происходит в окружающем мире, изменениям подвергаются не только отечественные обычаи и нравы, но и совокупные черты национального характера, и правила, по которым живет Россия.
Прекрасно понимая социальную значимость традиционных ценностей православия как ориентиров для формирования мировоззрения и образа жизни россиян, агент влияния может использовать свое знание как во благо человеку, так и для причинения ему непоправимого ущерба. Нанесение вреда с помощью ценностей возможно потому, что человек не всегда может отличить истинные ценности от суррогатных. Проблема в том, что смысл понятий, которыми обозначаются те или иные ценности, понимается отдельными группами людей и индивидами по-разному. К тому же в настоящее время слишком велик соблазн отказаться от вечных, абсолютных ценностей (придающих смысл самому бытию) ради низменных страстей. К примеру, чувство долга подменяется сиюминутной выгодой, чистая, светлая любовь — приключениями сексуального характера, институт брака — различными однополыми союзами. И если не исходить из заранее принятой шкалы, определяющей качества ценностей, отличить ложные ценности от подлинных с помощью теоретизирования непросто. Манипулируя такими христианскими понятиями, как свобода и справедливость, изначально несущими в себе конструктивный потенциал, можно подтолкнуть огромные массы людей к величайшей катастрофе. В качестве наглядного примера можно привести социальную ситуацию на Украине. Посредством финансирования иностранных некоммерческих организаций на Украине сконструировали нацистский дискурс, в соответствии с которым Украина была колонией Российской империи, а затем ее оккупировал Советский Союз. Как представляется, во многом к нынешнему положению народа на Украине привело засилье в стране протестантских деноминаций деструктивного типа и неоязыческих организаций. Так, в числе ведущих кураторов первого майдана в 2004 г. была протестантская организация «Посольство Божие», а второй во многом подготовили и организовали религиозное объединение «Возрождение» и Украинская греко-католическая церковь. Католические и протестантские церкви на Украине открывали университеты и просветительские центры, из которых выходили юристы, историки, педагоги. Поэтому то, что сейчас происходит с Украинской Православной Церковью под влиянием СМИ (законопроект о запрете, захваты и разорения храмов, преследования и аресты священников), как ни горько это осознавать, отчасти виновата она сама. Церковь не только не задала нужный вектор для своего движения и, соответственно, развития общества, но и не ответила на вопросы: Для чего? Что делать? Каким образом?
Несмотря на то, что в процессе секуляризации значение институциональной религии существенно снизилось, потребность людей в высших целях (тех, ради которых «стоит жить») по-прежнему остается высокой. И именно Церковь как социальный институт должна эту потребность удовлетворять в полной мере, оставаясь чуткой к смысложизненным проблемам каждого человека, находящегося в затруднительной ситуации — самоопределения и выбора. Причем Церковь не должна ограничиваться моральной проповедью и богослужебной деятельностью, в таком варианте она будет являть собой одну из многочисленных институционально-нормативных стратегий и сможет повлиять исключительно на людей воцерковленных (регулярно посещающих храм, участвующих в богослужениях и др. деятельности общины). Донести христианские ценности в современном обществе может лишь социально активная Церковь, опирающаяся на свое социальное учение и претворяющая его в жизнь через систематическую практику.
Терминальные ценности православия как нравственные ориентиры в социальной деятельности
Пытаясь найти ответ на вопрос о смысле жизни, индивид в конечном счете предпочитает ценности, которые являются вечными, нетленными, не подвергающимися смысловым деформациям, самыми надежными (ценности-цели). Вслед за Милтоном Рокичем [Rokeach, 1973], одним из первых теоретиков, представивших хорошо сформулированную концепцию, демонстрирующую структурирование ценностей в системе культуры, мы назовем этот вид ценностей «терминальными». Терминальные ценности направляют человека к смыслу его жизни и могут быть как внутриличност-ными, так и социально центрированными. Исследователи отечественного менталитета неоднократно акцентировали наше внимание на том, что в русском национальном характере сосредоточено пристальное внимание к проблемам, определяющим смысл бытия, нравственный выбор человека1. Русский человек бьется над ответом, что такое зло и что такое добро, желая обрести внутреннюю гармонию путем постижения нравственного идеала. Немаловажной составляющей менталитета русского является также стремление помочь страждущему, протянуть руку помощи находящемуся в беде. «Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и всечеловечности? Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только… стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите» [Достоевский, 1992, 142].
Для христианина наивысшей ценностью-целью выступает «абсолютная полнота бытия», содержащаяся в Триедином Боге. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой являют высшую форму совершенства, соответственно, Бог выступает сверхценностью, а наивысшим критерием нравственности может считаться полное единение человека с Господом как созданного по Его образу и подобию и предназначенного для общения с Ним (см.: Быт 1:27). Стремление к обожению с помощью примирения с Творцом можно рассматривать как цель и смысл земного бытия, причем в православном богословии акт достижения личностью абсолютного мира являет собой образ, изображенный на иконе преподобного Андрея Рублева, как диалог любви «Я-Ты», поскольку «Бог есть любовь» (1 Ин 4:8). «Бог, говорит нам учение о Троице, есть не просто себялюбие, но разделенная любовь. Бог — не одна личность, любящая только себя самое. Бог есть триединство личностей, любящих друг друга, и в этой взаимной любви личности всецело „объединены“, хотя при этом они не утрачивают отличающей их „индивидуальности“» [Каллист Уэр, 2002, 116]. Таким образом, Триединый Бог не просто являет в Себе полноту жизни и любви, но приглашает и нас к этой абсолютной полноте бытия посредством кинонии (общения) — с Богом, ближним, самим собой и всем творением.
Он призывает к тому, чтобы в нас «изобразился Христос» (Гал 4:19), то есть к святости — высшей цели, ведущей к бессмертию, и ценности Царства Божия, сопутствующей сверхценности Бога. Спасение достигается внутри сообщества, образующего Тело Христово, — в Церкви. Как Божие творение, но существо греховное, человек может отказаться от греха, приняв образ Божий в Церкви как месте соединения Бога, человека и всего мира в таинствах и добродетелях. Для православных христиан Церковь — это не просто один из многих социальных институтов общества или разновидность некоммерческой организации, но образец социума — сакрального пространства, в котором происходит встреча Бога и человека и в котором все духовные и социальные взаимоотношения выстраиваются на основе христианского вероучения. Принимая таинство Крещения, человек становится чадом Божиим, но еще не личностью. Развитая в духовном смысле личность, оказавшись перед выбором, не позволит себе вступить на аморальную стезю, не будет заниматься самооправданием, но своим благовидным поведением, своим качеством жизни будет менять, совершенствовать окружающий его мир. Социальная значимость Церкви как ценности возможна и в современном секулярном обществе при условии реализации христианской жизненной позиции (его отношения к делу, жизни по заповедям и служения словом). Истинно организованное пространство Церкви — это приглашение к кинонии всех людей, всего мира, в том числе внецерковного.
Следуя путем любви и кинонии, человек подражает Христу. «Будьте подражателями мне, как я Христу» (1 Кор 11:1) — призывает св. ап. Павел, указывая на Образец совершенства и необходимость восприятия ценности христоцентризма.
Безусловно, на этом пути христианина ждут испытания. Практически каждому человеку знакома ситуация, завязанная на конфликте, произрастающем в недрах его души, его личностного «я». Для разрешения внутриличностного конфликта ему необходимо сделать очень нелегкий нравственный выбор между ценностями. Чаще всего, между ценностями подлинными и мнимыми, но бывает — между абсолютными и частично абсолютными. Мучительный процесс выбора может быть драматическим. Наиболее яркий пример приводит Ветхий Завет, предлагая Аврааму сделать выбор между Богом и сыном: «И Господь испытывал Авраама и сказал ему: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе» (Быт 22:2). То есть человек может оказаться в ситуации совершения морального преступления, когда от предпочтения той или иной ценности будет зависеть и его дальнейшая судьба. И здесь важно иметь некую базовую шкалу ценностей, их упорядоченную последовательность. Так, сверяясь со шкалой ценностей, Авраам лишает себя земной радости, он отказывается от собственного сына во имя Бога и жизни вечной.
Однако в силу ряда накопленных веками причин наш современник, за редчайшим исключением, не способен к трансценденции. Соответственно, делая выбор в непростых ситуациях, человек и хотел бы вступить на путь добра, но вместо этого ограничивается удовлетворением повседневных потребностей или, более того, спускается до уровня самых низменных инстинктов. В острейших ситуациях, требующих самоотдачи, принесения чего-то в жертву, предпочтение отдается самым необременительным путям выхода. Продолжая следовать по привычной стезе — стезе удовольствий, наслаждений, человек использует для достижения личных целей все, что его окружает в качестве средства, — природу, социум, отдельных людей. Нормы человеческого поведения, заложенные в ветхозаветном Декалоге и новозаветной Нагорной проповеди Иисуса, для подавляющего числа людей, даже причисляющих себя к категории верующих, воцерковленных людей, остаются некоей труднодостижимой абстракцией, образцом, следовать которому в реалиях окружающей действительности либо очень трудно, либо невозможно. Поэтому и наиглавнейшая установка милосердного христианского служения, призывающая не делать ближнему того, чего не желаешь самому себе, часто игнорируется.
Тогда необходимым условием наполненного бытия становятся частичные абсолютные ценности, так как абстрагированная от конкретики абсолютная полнота христианского бытия является непостижимой и недостижимой. Для того чтобы тайна стала явью для каждого, следует придать ей некие качественные характеристики, они и будут являть собой частичные абсолютные ценности. К ним относятся святость, истина, добро, жизнь, любовь, свобода, справедливость (см., напр.: [Лосский, 1994, 273]). Сложно представить Бога без любви, добра и справедливости. Исходя из данных нравственных установок, люди воздействуют на вечность; таким образом, обычная помощь страждущему может рассматриваться более богоугодной, чем формальное следование букве религиозных предписаний.
Церковная социальная деятельность, сконцентрированная на группе вопросов, затрагивающих глубинные основы бытия (зачем? с какой целью? во имя чего?), самой постановкой перечисленных вопросов отличается от других видов жизнедеятельности. Моральная ответственность Церкви перед большим количеством людей заставляет находить ответы на животрепещущие вопросы в каждой отдельно рассматриваемой ситуации. Трафаретных решений быть не может. Причем не только относительно нуждающихся в какой-либо помощи со стороны Церкви. Специалистам в сфере приходской (или епархиальной) социальной деятельности также недостает многих составляющих — глубокой веры, знаний, самопогружения, совестливости, наконец.
Инструментальные ценности церковного социального служения
Какие ценности способствуют максимально полной реализации терминальных ценностей? Что лежит в основе активной социальной деятельности руководителей церковных социальных служб и что поддерживает их на пути служения самым разным людям — обездоленным и нищим, оступившимся подросткам и сиротам, зависимым от психоактивных веществ и их созависимым семьям? Что отличает ценности профессиональной социальной деятельности Церкви от других профессий, в частности от светской социальной работы?
Для того чтобы дать ответы на эти вопросы, было проведено эмпирическое исследование (январь-июнь 2024 г.) с использованием метода экспертного полуструк-турированного интервью. Интервью носило глубинный (качественный) характер, записывалось на диктофон с последующим транскрибированием текста и занимало по времени 1,5–3 часа. Выбор данного метода обусловлен возможностью достаточно глубоко погрузиться в непосредственный опыт и практику профессионалов в сфере церковной социальной деятельности. Под профессионалом мы в данном исследовании понимаем человека, обладающего особым экспертным знанием в своей деятельности, имеющего высокий статус, пользующегося одобрением коллег и подопечных, нуждающихся в социальной помощи (см. об этом: [Батыгин, 1994]).
В роли экспертов-профессионалов выступили руководители социальноориентированных структурных подразделений Русской Православной Церкви (Синодального и епархиальных отделов по церковной благотворительности и социальному служению), а также руководители некоммерческих организаций социального профиля, учрежденных при церковной поддержке. Критериями для отбора экспертов являлись: (1) высокая результативность деятельности возглавляемых ими организаций (отделов); (2) стаж церковной социальной деятельности не менее 10 лет, в том числе на руководящей позиции — не менее 5 лет. Еще одним критерием (3) выступало направление социальной деятельности организации (отдела), которую представлял эксперт; важно было охватить основные категории нуждающихся в церковной социальной поддержке: семьи в кризисной и трудной жизненной ситуации, тяжелобольные люди и имеющие группу инвалидности, пациенты психиатрических учреждений, заключенные, ВИЧ-инфицированные, бездомные и мигранты, люди, страдающие зависимостью от психоактивных веществ (ПАВ), подростки в конфликте с законом и молодежь, дети, оставшиеся без попечения родителей, участники боевых действий и их семьи. По каждому из направлений было опрошено 1–2 эксперта. Также в число экспертов были включены преподаватели социальных дисциплин
(те, кто ориентирован на подготовку потенциальных руководителей церковных социальных служб) со стажем профессиональной деятельности не менее 10 лет. Поскольку исследовательский интерес связан с поиском универсального (разделяемого абсолютным большинством профессиональной группы) символико-нормативного комплекса, набора надындивидуальных смыслов, целевой группой выступил именно выполняющий управленческие функции менеджмент социально ориентированной организации (или церковной социальной службы), где трудятся и другие профессионалы, обеспечивающие высокие показатели результативности своей деятельности. Всего было опрошено 24 эксперта. С целью обеспечения принципа конфиденциальности при проведении исследования все имена интервьюируемых были закодированы. (Приводя ниже цитаты из интервью, мы обозначаем эксперта, сказавшего цитируемые слова, порядковым номером в квадратных скобках. Данные об экспертах приведены в конце статьи.)
Таким образом, объектом исследования выступили руководители церковных социальных служб и преподаватели социальных дисциплин, а предметом исследования — инструментальные ценности (ценности-средства как убеждения в предпочтении определенного образа действий или свойства личности) и их интерпретация. Исследовательской задачей стало выявление специфики инструментальных ценностей, отражающих основные принципы и мировоззрение профессионалов в сфере церковной социальной деятельности в современной России.
Социальная деятельность Русской Православной Церкви на рубеже ХХ–ХХІ вв. осуществляется не только на базе собственных религиозных организаций (на приходах, в монастырях) и созданных некоммерческих организаций (православная служба помощи «Милосердие», БФ «Детская миссия», БФ «Центр святителя Василия Великого» и др.), но и в рамках государственных учреждений (в больницах, психоневрологических интернатах, центрах содействия семейному воспитанию, домах ночного пребывания и пр.), а также на базе светских социально ориентированных некоммерческих организаций (далее также — НКО, СО НКО). В церковных социальных службах можно получить духовную, материальную, социально-психологическую, трудовую и другие виды поддержки.
Для того чтобы выявить отличительные особенности инструментальных ценностей социальной деятельности сотрудников Церкви, экспертам (только тем, кто имеет профессиональный опыт в системе социального обслуживания населения или тесно взаимодействует с государственными социальными службами), в частности, задавался вопрос: «Сравните социальное служение и светскую социальную работу».
В своих ответах эксперты были единодушны: в государственной системе социального обслуживания населения РФ велика роль технократического подхода к профессии. Профессиональная социальная работа относится к сфере социального сервиса и, как и любая другая экономическая отрасль, имеет жестко обозначенные компетенции специалистов, технологические требования к выполнению процесса производства, четкие инструкции к трудовому процессу, регламентированный и подотчетный режим деятельности организации. При таком подходе деятельность профессионала, к примеру, в Центре помощи семье и детям мало чем отличается от работы в автопарке или в туристическом агентстве. « Когда перевели социальную работу на услуги, — сокрушается один из экспертов, — так же, как образовательные услуги, медицинские услуги... ты, как некий робот, выполняешь перечень, чего ты должен, а все остальное, если ты еще качественно не столь душевный человек… уже как бы на самотек» [10] .
По сути, социальная работа в системе государственного социального обслуживания перестает носить ценностный и контекстуальный характер, что, в числе прочего, сберегает силы специалистов, уменьшает затраты, сокращает сроки предоставления социальной помощи населению и позволяет достичь запланированных показателей и результатов труда. «Часто в МФЦ по поводу социальной помощи приходится слышать: „Вам это положено. Вы добивайтесь!“Вам отказали второй раз, — „Вы подавайте документы снова! И добивайтесь!“ Вызывает недоумение этот призыв сотрудников
„команды мэра“: „Вы добивайтесь!“ <.> Нуждающемуся в помощи человеку не справиться с „заявительным“ характером получения государственной социальной помощи!» [9]
Интересными наблюдениями поделилась с нами руководитель НКО, специализирующейся на работе с детьми делинквентного поведения: « Раньше мы призывали, лет десять назад, чтобы открывались подобные государственные учреждения, но потом стало понятно, что госучреждения просто не смогут так работать, они нацелены только на консультирование. Пришли подростки — и ушли. Брать такую ответственность за них? Нет… Очень важную ремарку сделали наши коллеги, когда приезжали к нам на стажировку: „Во всех социальных учреждениях, где работают с подростками, в детский дом или в приют приходишь, там дети сидят, а вокруг люди бегают туда-сюда, туда-сюда… все какие-то зашоренные, со страхом… А у вас? Вы все время сидите, пьете кофе на расслабоне, а дети бегают: «Ой, где у меня расписание? Где у меня вот это?» — Как это у вас получается?“ — Мы передаем ответственность: это их [детей] проблемы, вот идите и решайте сами эти проблемы» [8] .
Тем не менее в церковной социальной практике крайне важно максимально активно организовать взаимодействие с государственными социальными службами, светскими НКО, администрацией региона. Чем больше контактов и шире социальная сеть, тем результативнее социальная деятельность. К примеру, чтобы преодолеть « препоны заявительного характера» координатор церковной социальной деятельности на приходе должен помочь нуждающемуся в помощи человеку: «поставить его на учет в муниципальные службы соцзащиты; оформить все необходимые документы и добиться получения положенной по закону помощи от государства. То есть церковным социальным службам следует стремиться к установлению тесного взаимодействия с государственными органами, службами соцзащиты.» [9] .
В сопоставлении, несмотря на определенную специализацию, профессионализация церковной социальной деятельности конструируется на общих, универсальных знаниях, ценностях и принципах. Дела милосердия, жестко запланированные в количественных и качественных показателях, превращенные в собственные достижения специалистов и предоставляемые в строгой отчетности, не укладываются в православную ценностно-нормативную систему. Специалисты в сфере церковной социальной деятельности « мягче и гибче, чем светские специалисты. Гораздо более свободы и есть возможности для творчества. Готовы чем-то жертвовать, более доступны для своей команды, при надобности всегда рядом, готовые поддержать. Поскольку ими двигает вера и благодать Божия» [10].
Церковных специалистов отличает открытость и отсутствие страха, у них «не возникают вопросы: „Ой, а что скажут? Ой, а что подумают? Ой, я тут засел, с вами кофе пью, а мне нужно столько отчетов писать, что начальство скажет?“» [8] . Важно жить в не измеряемой цифрами планирования совершенной открытости и обладать спокойствием, когда страх полностью отсутствует. Многие наши информанты указывали на ценность свободы в социальном служении, к примеру: «Какая-то внутренняя свобода… любовь… как Христос призвал нас к свободе … такой свободе, когда ты не зажат, потому что очень много всего боятся, и православные боятся. Дерзновение должно быть. А дерзновение, оно приходит от любви, а любовь, она приходит от того, что ты идешь навстречу, ты идешь за Христом и не оглядываешься сильно по сторонам (а что если? что мне потом будет?)… какая-то такая робость, которая лишает радости. Лучше ошибиться, но не надо из себя делать то, чем ты не являешься… честности нет… простоты нет. А простота — она не в этом убожестве, когда надо что-то показать, что ты такой вот хороший и добрый. много напускного, а любви, простоты и открытости — как раз этого и нет» [11].
Таким образом, отсутствие страха, свобода в понимании руководителей церковных социальных служб связаны с честностью, простотой («надо пойти к вот этим людям и встать на один уровень с ними, может быть, даже в какой-то мере опуститься чуть-чуть пониже, чтобы этим людям помочь немножко подняться» [2]), ответственностью («отсутствие страха своей личной ответственности» [8]) и открытостью — не только по отношению к людям, но и ко всему новому, к знаниям («если у человека есть желание развиваться. это дорогого стоит... если каждый специалист будет вот это желание чувствовать, испытывать… он будет учиться, развиваться и, мне кажется, такой человек может стать профессионалом за буквально небольшое количество времени» [6]).
В основании церковной социальной деятельности заложена ценность любви к Богу и ближнему, неразрывно соединенные друг с другом: «Церковь, грубо говоря, воодушевляет, направляет людей к Богу, к вечности… чтобы человек видел в этих тряпках, памперсах, бинтах, ведрах путь служения Христу. Который умыл ноги учеников, Который поставил нам милосердного самарянина в пример, Который взгромоздил этого больного на свою осленку и донес» [4]. И в то же время «привести людей к Богу через деятельную помощь — это такая сверхзадача, которая не на поверхности. если она не получится, это же не значит, что мы им не будем помогать. Мы все равно будем помогать, потому что это внутренняя потребность» [7]. Выясняем, что основная потребность — «отношение к подопечному, как к важному человеку, которого ты очень-очень любишь: муж, жена, сын, дочь, внук, друг, подруга, не суть, то есть какого-то очень-очень важного человека. И тебе вот интересно про него всё — о чем он думает, что ему снилось, как он себя чувствует» [8].
При обсуждении личностных качеств тех, кто посвящает себя социальному служению, несколько экспертов подчеркивали важность стремления к трансцендентному. Без веры, без мотивации к Богообщению, церковное служение лишается духовного смысла, необходимо выйти за пределы собственного «эго»: «здесь должно быть измененное сознание. Оно как будто похоже на обычное сознание, но вся тонкость в механике, в частности, в иерархии потребностей, в доминирующих мотивах. Они определяют целеполагания, глобальные смыслы существования как человека- профессионала. Зачем он всем этим делом занимается? Потому что служение христианское — оно иррациональное, противоречащее многим базовым потребностям человека… эти внутренние и внешние установки формируют поведение человека и его отношение к себе, к ближним. Причем происходит это на уровне частично осознанном или вообще неосознанном… некие такие вот выборы, которые делает человек. Вот тест, когда рука тянется к разного размера булочке: кто-то берет самую большую булочку, не задумываясь, а другой берет самую маленькую, не задумываясь, и съедает, даже не отдав себе отчет, что они съели. Так и в служении…» [3]. Или другой пример: «вот мне тож, близкие мои говорили тогда [в период воцерковления], что нельзя воспринимать Евангелие как руководство по эксплуатации швейной машинки. Мол, это символы, это речи, к этому надо как-то проще относиться. Я помню, тогда в ответ спрашивала: „Вы верите, что на третий день Христос воскрес?“» [8].
Одним из самых сложных для руководителей социальных служб оказался вопрос: «Как измерить личностный рост в деле социального служения?» Многие эксперты затруднились быстро дать конкретный ответ. Предлагали «измерить пассионарность, то есть мотивированность и готовность быть неравнодушным и что-то делать» [5], а также оценить (самооценка или экспертная оценка, например, проведенная духовником) «параметры духовного устроения в виде поведенческих и психологических установок. выделить несколько маркеров, по которым оценивается изменение духовного устроения человека, и присвоить значению того или иного маркера определенную переменную… скажем, насколько человек дисциплинирован и следует заповедям Господа или как ведет себя в конфликтной ситуации» [1].
Отвечая на вопрос: «Каковы условия высокой результативности церковной социальной деятельности?», руководители предложили следующие варианты (ответы распределены по порядку их значимости):
-
1) Создание поддерживающей терапевтической среды, в рамках которой все участники «придерживаются идеологии уважения к человеку» [6];
-
2) «Постоянство, верность служению. за которым скрывается подлинное милосердие, негромкое, верное» [4];
-
3) Профессионализм.
Итак, на пути социального служения в течение профессиональной биографии специалиста есть ценности, которые сопровождают его перманентно, составляя квинтэссенцию его миропонимания. К таким инструментальным ценностям, управляющим устройство самых главных в жизни идей, воззрений и смыслов, можно отнести любовь, веру, свободу, честность, открытость, ответственность и др. Перечисленные ценности являются необходимым инструментарием христианской социальной деятельности.
Данные об экспертах (краткие сведения с сохранением анонимности)
-
1. Преподаватель, специалист по социальной работе в НКО, мужчина, священник, высшее теологическое и среднее медицинское образование, опыт работы в системе здравоохранения 13 лет, опыт социального служения в церковных структурных подразделениях 20 лет, в т.ч. на руководящей должности, педагогический стаж в вузе — более 10 лет.
-
2. Преподаватель, мужчина, священник, высшее теологическое образование, опыт руководителя СО НКО 5 лет, стаж работы в вузе, в т. ч. на руководящей должности — 20 лет, доктор теологии, профессор.
-
3. Руководитель социально ориентированного структурного подразделения Русской Православной Церкви, мужчина, священник, психологическое образование, опыт светской и церковной социальной деятельности более 25 лет, педагогический стаж в вузе более 30 лет, канд. псих. наук, доцент.
-
4. Руководитель социально ориентированного структурного подразделения Русской Православной Церкви, мужчина, священник, богословское образование, опыт церковной социальной деятельности 20 лет, опыт преподавания в системе дополнительного профессионального образования (ДПО) более 10 лет, кандидат богословия.
-
5. Руководитель социально ориентированного структурного подразделения Русской Православной Церкви, мужчина, священник, богословское образование, опыт церковной социальной деятельности более 12 лет, опыт преподавания в системе ДПО более 10 лет.
-
6. Руководитель СО НКО, мужчина, образование специального психолога и специалиста по социальной работе, опыт работы в церковных организациях 13 лет, есть также опыт работы в государственных учреждениях социального профиля и светских социально ориентированных НКО — более 10 лет.
-
7. Руководитель социально ориентированного структурного подразделения Русской Православной Церкви и НКО, женщина, музыкальное образование, искусствовед, опыт церковной социальной деятельности 20 лет, в т.ч. на руководящей должности — более 10 лет.
-
8. Руководитель СО НКО, женщина, высшее социологическое (специализация — социальная работа) и среднее медицинское образование, опыт социального служения 25 лет, в т. ч. в должности руководителя 21 год.
-
9. Преподаватель, женщина, филологическое образование, стаж работы в вузе, в т.ч. на руководящей должности — 31 год, докт. ист. наук, профессор.
-
10. Преподаватель, женщина, по первому образованию — инженер-системотехник, по второму — специалист по социальной работе, опыт административноруководящей деятельности в системе государственного социального обслуживания и в социальной организации под патронажем Церкви более 10 лет, педагогический стаж — 19 лет, канд. соц. наук, доцент.
-
11. Сестра милосердия, женщина, среднее медицинское образование, высшее образование (специалист по физической культуре и спорту), в должности руководителя государственного социального учреждения 17 лет, опыт служения в церковной СО НКО более 5 лет, канд. пед. наук.
Список литературы Традиционные ценности православия как нравственные ориентиры в формировании социальной направленности личности
- Кодекс (2012) - Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации. Принят Первым национальным съездом врачей Российской Федерации (г. Москва, 5 октября 2012 г.) // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/561281077 (дата обращения: 10.09.2024).
- Указ (2022) - Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» // Официальный сайт правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019 (дата обращения: 10.09.2024).
- Батыгин (1994) - Батыгин Г. С. Профессионалы в расколдованном мире // Этика успеха: Вестник исследователей, консультантов и ЛПР. Вып. 3. Тюмень; М., 1994. С. 9-19.
- Достоевский (1992) - Достоевский Ф. М. Пушкин: очерк // Русская идея: Сборник. М., 1992.
- Каллист Уэр (2002) - Каллист (Уэр), еп. Диоклийский. Святая Троица - парадигма человеческой личности / Пер. с англ. А. Кырлежева // Альфа и Омега. 2002. № 2 (32).
- Лосский (1994) - Лосский Н. О. Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей // Бог и мировое зло. М., 1994.
- Путин (2024) - Путин В. В. Россия становится центром традиционных европейских ценностей и культуры. URL: https://ria.ru/20240607/putin-1951499340.html (дата обращения: 10.09.2024).
- Смирнов (2004) - Смирнов П. И. Слово о России: Беседы о российской цивилизации. СПб., 2004.
- Rokeach (1973) - Rokeach M. The Nature of Human Values. New York, 1973.