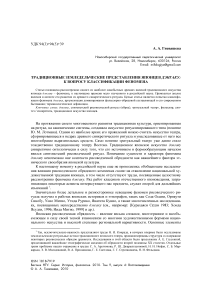Традиционные земледельческие представления японцев дэнгаку: к вопросу классификации феномена
Автор: Гневашева Анна Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению одного из наиболее самобытных древних явлений традиционного искусства японцев дэнгаку - феномена, к настоящему времени мало изученного в российской науке. Проводится анализ явления в аспекте его развития из древнего синкретического ритуала. Целью статьи является попытка классификации феномена дэнгаку, аргументация доминирования фольклорно-обрядовой составляющей в его современном бытовании; терминологические дефиниции.
Дэнгаку, синтоистский рисоводческий ритуал (обряд), "ритуальный театр", фольклор, синтез / синкретизм, традиционное искусство японцев
Короткий адрес: https://sciup.org/14737263
IDR: 14737263 | УДК: 94(3)+94(5)+39
Текст научной статьи Традиционные земледельческие представления японцев дэнгаку: к вопросу классификации феномена
Японская рисоводческая обрядность - явление весьма сложное, многогранное и всеобъемлющее в силу своей тесной взаимосвязи со многими художественными формами национального искусства и высокой степенью региональной вариативности. Основные элементы
-
1 Так, исключительную важность представляют труды Н. И. Конрада, в которых впервые были исследованы земледельческие ритуальные истоки традиционного японского театра, проанализированы структура и содержание некоторых рисоводческих обрядов древности. Исследования в этой области были продолжены А. Е. Глускиной, представившей важнейшие этнографические сведения об обрядности второй половины XX столетия. Отдельные грани проблемы нашли отражение в трудах С. А. Арутюнова, Р. Ш. Джарылгасиновой, Н. И. Иофан, С. Б. Мар-карьян, Э. В. Молодяковой, В. А. Пронникова, Г. Е. Светлова, Г. Г. Стратановича, Н. И. Фельдман.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 4: Востоковедение
рисоводческого ритуала оформились уже в рамках древней земледельческой общины. В его основе лежала троичная структура, в последствие ставшая традиционной для синтоистского ритуала (встреча божества ками , его почитание и проводы). По форме такие фольклорные обряды представляли собой коллективный труд на поле в музыкально-танцевальном либо чисто музыкальном (как правило, песенном) оформлении, направленный на обращение к божествам плодородия. Ключевым моментом таких действ становится ритуальная имитация посадки риса, либо всего процесса его возделывания [Утида Рюрико, 1966].
Уточним, что понятие «рисоводческий ритуал» как таковое не используется в научной литературе, и в каждом конкретном случае учеными используются термины, отражающие суть определенного культурно-исторического этапа в классификации данного явления. В японских исследованиях, насколько нам известно, не фигурируют обобщающие названия явлений рисоводческой обрядности и, как правило, используются только самоназвания локальных обрядов. Термин мацури употребляется носителями традиции достаточно разнородно и зачастую заменяется словами синдзи («церемония»), сайрэй («религиозная церемония»), что, на наш взгляд, более адекватно отражает суть современного типа явления. Понятие «рисоводческий ритуал» предлагается нами для обозначения широкого круга феноменов, включающего все многообразие явлений рисоводческого цикла, начиная от древнейших крестьянских обрядов, заканчивая современными храмовыми церемониями.
-
Н. И. Конрад употребляет по отношению к рисоводческому ритуалу, бытовавшему в Японии в первой половине XX в. и ранее, термин «представление». А. Е. Глускина использует понятие «обрядово-игровое действо», «земледельческое / магическое представление» [Конрад, 1978; Глускина, 1979]. Так или иначе, авторитетные отечественные исследователи определяют данное явление как народное театральное искусство, подчеркивая его генетическую связь с профессиональным театром. В действительности и в наше время многие подобные действа представляют собой не столько сакральное, сколько художественное осмысление сельскохозяйственных обрядов в танцевально-песенной форме ( дэнгаку-мацури ). Иные по-прежнему сохраняют форму сельскохозяйственных работ, проходящих в поле (в настоящее время чаще всего в храмовом пространстве или вблизи храма) и сопровождаемых ритуальными действиями ( тауэ-мацури , тауэ-синдзи и пр.). По этой причине унифицировать все данные явления в едином понятийном пространстве рисоводческого ритуала не представляется возможным. Отсюда проистекает необходимость рассмотрения названных явлений двояко: с одной стороны, обобщенно, в аспекте единого их истока, а с другой - индивидуально, в попытке выявления общих и особенных черт каждого из них.
Характерной особенностью японской культуры в аспекте развития театральных форм из ритуала является одновременное сосуществование в ее пространстве явлений, возникших в различные исторические периоды. Так, на основе земледельческой обрядности в середине эпохи Хэйан (ок. Х в.) сложилось профессиональное искусство дэнгаку , которое впоследствии оказало значительное влияние на формирование театра Но ( ногаку) . При этом каждое из возникавших явлений не вытесняло хронологически более раннее, ибо культура Японии относится к типу не «замещения», а «приращения», демонстрируя «стойкость и долговременность форм при разнообразии новаций и заимствований» [Ермакова, 1995. С. 9]. В силу этого дэнгаку до настоящего времени бытует в некоторых районах Японии наряду с ногаку .
Таким образом, рисоводческий ритуал (фольклорный, а затем храмовый), «перетекая» в иные художественные формы либо соприкасаясь с ними, при этом не утратил устойчивости своей структуры, которая сохраняется практически неизменной с древности вплоть до настоящего времени. В то же время в современной культуре наблюдается и обратная тенденция, когда отдельные компоненты традиционных видов искусства, долгое время развивавшихся независимо, сознательно включаются в пространство храмового рисоводческого ритуала как наиболее эффективного механизма сохранения и трансляции культурного наследия японцев. Рассмотрим механизм этих взаимовлияний на примере развития средневековых представлений дэнгаку .
Дэнгаку (букв. «музыка рисового поля») - разновидность танцевально-драматического искусства, берущего начало от ритуалов, связанных с севом или уборкой урожая (а именно от та-асоби как ритуала испрашивания хорошего урожая). Существует также версия о заимствованном характере этого явления. Так, А. Е. Глускина определяет дэнгаку в качестве буд- дистских представлений [Глускина, 1979. С. 237]. Однако в целом, как показывают японские и российские исследования, развитие дэнгаку происходило в рамках синтоистской обрядности. Искусство дэнгаку принято рассматривать в качестве предшественника театра Но [Анарина, 1993; Хонда Ясудзи, 1996; Иида Митио, 1999].
В японской литературе дэнгаку фигурирует как традиционное земледельческое представление, включаемое в один ряд с церемониями о-тауэ («посадка риса»), та-асоби («полевые игры»), о-тауэ-синдзи («священнодействие посадки риса») и др. Иногда два представления - о-тауэ и дэнгаку - не разделяют и именуют как праздник дэнгаку-тауэ-но мацури 2. В данном контексте перечисленные явления понимаются скорее как вид искусства, представлявшегося на сцене профессиональными исполнителями, нежели в качестве фольклорных обрядов. В современной практике танцы дэнгаку отличаются от о-тауэ-мацури и составом инструментов, и манерой исполнения, и потому их можно считать отдельным направлением традиционного фольклорно-обрядового наследия Японии. Однако на первоначальном этапе разные типы представлений, возможно, отличались довольно незначительно и воспринимались как единое направление.
Наряду с этим необходимо учитывать имеющую место в японских исследованиях теоретическую неразработанность вопроса, когда для обозначения разных составляющих этого синтетического явления употребляется один и тот же термин. Этот факт также показывает существующую в японской науке проблему терминологической унификации данного материала.
В японских исследованиях термин дэнгаку употребляется в следующих основных значениях:
-
1) музыка дэнгаку , берущая начало от крестьянских рисоводческих обрядов, действие которых традиционно сопровождалось аккомпанементом традиционных инструментов;
-
2) танцы дэнгаку , представляемые профессиональными исполнителями дэнгаку-хоси ( хоси - букв. «монах»).
-
3) фурю-дэнгаку («изящное дэнгаку») - представления, которые проводились императором и аристократией, называемые также «танцы дэнгаку» ( дэнгаку-одори ) [Хонда Ясудзи, 1995; Иида Митио, 1999; Исследование истории дэнгаку , 1986; Собрание истории…, 1974].
Рассматривая историю дэнгаку как феномена средневекового искусства, отметим, что его расцвет пришелся на XI-XIV вв. Как известно, уже к концу эпохи Хэйан под покровительством храмов были организованы театральные цеха дза . Сформировался особый класс исполнителей танцев дэнгаку , которых называли дэнгаку-хоси. Благодаря мастерству исполнителей дэнгаку было усовершенствовано и приобрело статус самостоятельного искусства. Причину его популярности можно объяснить достижением утонченного исполнения при сохранявшейся сельской простоте.
Дэнгаку в основном было тесно связано с ритуальной практикой: такие представления, как тюмонгото (пьеса у ворот) и такааси (пьеса на ходулях) из репертуара дэнгаку , были еще более древними, чем сам этот жанр. В первом случае использовался инструмент биндзасара 3, во втором – флейта, малый и большой барабаны. Маски использовались от случая к случаю. Их применение было более ограниченным, чем в ногаку .
Сцена, как – в будущем – и сцена Но, представляла собой площадку, к которой присоединялся узкий длинный помост ( хасигакари ) [Нисимо, 1978. С. 251]. Очевидно, подобная конструкция сцены была унаследована от древних земледельческих представлений.
В японских хрониках и дневниковой литературе существуют многочисленные свидетельства о небывалом пике популярности дэнгаку в эпоху Хэйан (794–1185). Так, известно, что в 1096 г. жители Киото, а также император и аристократия страстно увлеклись этим жанром представлений. В записках Оэ Масафуса 4 «Ракуё дэнгакуки» 5 это явление именуется эйтё-но дай дэнгаку – по названию периода Эйтё (1096-1097). «Энтайрёку» и дневник Тоин Кин-ката (1241-1366) содержат сведения о том, что в 1311 г. дэнгаку наблюдал экс-император, и что в те годы повсеместное повальное увлечение этими представлениями достигло пугающих размеров. Существует описание представления на берегу реки Ромогава, которое наблюдало несколько тысяч зрителей. В связи с этим явлением появилось особое понятие – «болезнь дэнгаку» (дэнгакубё) 6.
Исходя из описаний подобных действ, мы можем судить о дэнгаку как о феномене, выходящем за рамки сугубо театрального искусства. В этом плане данное действо сближается с мацури , понимаемом как массовое действо, определяющую роль в котором играет внешняя, «карнавальная» сторона. Об этом говорит не столько количество участников, сколько их поведение во время празднества. Оэ Масафуса указывает на неслыханные с точки зрения того времени нарушения правил и табу: ношение «одежды, выкрашенной травами», либо простой набедренной повязки и «шляп, какие носят при посадке риса», не только простым народом, но придворными и чиновниками (цит. по: [Сисаури, 2008. С. 214–215]).
Интерес вызывает содержание представлений в ходе «полевых игр». В играх принимали участие девушки, которые «сажают рис», и девушки, которые «толкут рис» ( саотомэ ). В. И. Сисаури предполагает, что в подобных действах так же, как и в рисоводческих обрядах, имела место имитация сельскохозяйственного процесса [Сисаури, 2008. С. 213].
Для музыкального сопровождения «полевых игр» использовались преимущественно фольклорные инструменты: это «барабанчики, подвешенные к поясу», «барабаны-погремушки» 7, «медные тарелки», «трещотки» 8. Помимо танцев и представлений в ходе празднества осуществлялись всевозможные игры и состязания. При всей пестроте и зрелищности данного действа можно говорить о первостепенном значении его фольклорно-обрядовой основы.
В связи с многоликостью и разнообразием условий функционирования данного явления в науке не существует общепринятой классификации дэнгаку . Это связано, в первую очередь, с тем, что этот феномен достаточно сложно обособить от других представлений, имеющих своим истоком древнюю земледельческую обрядность. Так, например, ряд российских японистов (Л. М. Ермакова, А. Р. Садокова) высказывает теорию о первоначальном бытовании Дэнгаку как разновидности кагура - сато-кагура . Как отмечает А. Р. Садокова, в сато-кагура нередко включались фольклорные образцы и, чаще всего, календарно-обрядовые песни [Са-докова, 1993. С. 126]. Исследователь считает сато-кагура трансформацией известных форм представлений на локальной основе. По-видимому, здесь подразумевается локальная вариативность типичной структуры кагура. Как предполагает А. Р. Садокова, сато-кагура относились к « дэнгаку – первоначально крестьянским песням, которые лишь со временем стали частью песенно-танцевального представления» [Садокова, 2001. С. 20].
Говоря о крупных направлениях дэнгаку эпохи Хэйан, японские исследователи выделяют такие разновидности, как Дэнгаку-оДори (или нати-Дэнгаку ), кёкугэй (акробатические представления), сисимаи («львиный танец») [Иида Митио, 1999. С. 174]. Здесь необходимо также упомянуть тип ямабуси-Дэнгаку. Исполняемый горными отшельниками ямабуси , этот вид представлений бытовал, главным образом, на северо-востоке Японии. Согласно данной традиции, представление строго регламентировано и включает фиксированное количество танцев.
Из сказанного следует вывод об отсутствии четких критериев для подразделения направлений дэнгаку , а также имеющем место в национальной литературе обозначении этим термином явлений, часто опосредованно относящихся к земледельческой обрядности.
Зачастую номера дэнгаку выступали не в качестве самостоятельных представлений, а включались в состав иных церемоний как отдельные части. В качестве примера подобного совмещения приведем описание церемонии уси-но ситамоти 9 , которая определяется носителями традиции как та-асоби и бытует в одном из храмов Футамори (г. Ооигава, преф. Сидзуока) со времен средневековья.
В начале церемонии на сцене появляется человек в маске лешего тэнгу . Держа в руках росток «голубого бамбука», он кружится по сцене, исполняя танец под названием «очищение Тэнгу», затем танец с нагината 10 , после чего исполняется цикл движений, включающих элементы львиного танца ( сисимаи ), имитации рыхления мотыгой, отгона птиц ( ториои ), тауэ , танца саотомэ , микомаи (танец храмовых жриц мико ). Затем исполнитель демонстрирует «промежуточный» дэнгаку , сару-дэнгаку , заканчивая представление имитацией покоса [Иида Митио, 1999. С. 175].
По мнению Иида Митио, церемония является продуктом взаимодействия двух явлений: та-асоби и дэнгаку . С нашей точки зрения, в ней условно можно выделить несколько слоев. Основой церемонии является одна из древнейших форм рисоводческого обряда, демонстрирующего имитацию всего процесса возделывания риса ( та-асоби ), включая самостоятельный обряд отгона птиц ториои. В его ткань включены более поздние в стадиальном отношении явления: танцы дэнгаку , элементы саругаку (который, вероятно, в силу сходства манеры исполнения, объединен здесь с танцем дэнгаку единым названием), а также «львиный танец» сисимаи – продукт предположительно китайского происхождения, имеющий широкую сферу функционирования в японском традиционном искусстве 11.
Данная церемония демонстрирует нередкий для японской культуры случай сочетания нескольких традиций в одной обрядовой форме, что, на наш взгляд, является оптимальным механизмом сохранения традиционного культурного наследия. Привлекает внимание и тот факт, что в описанной церемонии все разновидности танцев исполняет один и тот же танцор, представленный в виде фольклорного персонажа – лешего тэнгу . В ходе представления он попеременно исполняет роль крестьянина, храмовых жриц, саотомэ и даже льва. С одной стороны, это объяснимо характерным для ритуала символизмом, когда действие либо персонаж могут быть заменены их символами. С другой стороны, такой прием видится единственно приемлемым вариантом воспроизведения традиции на уровне провинции, где нет возможности привлечения больших групп профессиональных исполнителей.
В настоящее время дэнгаку , исходя из особенностей музыкального оформления, разделяют на два вида – танцевальное дэнгаку (в сопровождении биндзасара ) и дэнгаку , в котором исполнители оркестра хаяси используют сури сасара 12 («трущееся» сасара ). М. Ю. Дубровская приводит классификацию, в соответствии с которой дэнгаку наряду с фурю , саругаку и кагура входят в состав миндзоку гэйно: («народное исполнительское искусство») - одну из трех подгрупп комплекса миндзоку онгаку («народная музыка»), обобщающего понятия, служащего японским фольклористам для обозначения всей совокупности музыкальнопоэтического фольклора Японских островов [Дубровская, 2002. С. 400].
На наш взгляд, дэнгаку можно считать одним из наиболее почвенных и синтетических по своему генезису явлений средневековой, с одной стороны, фольклорно-обрядовой, а с другой – музыкально-театральной культуры Японии. Это представление отличается редким многообразием ситуативных и жанровых условий функционирования, в силу чего столь трудно ранжируется и обосабливается от других традиционных действ японцев. В продолжение тезиса о синтетической природе дэнгаку укажем, что современное бытование этого явления позволяет сделать выводы об общих чертах с фольклорными рисоводческими обрядами, синтоистской мистерией кагура, и фарса саругаку, имевшего претворение в театре Но.
В целом, феномен дэнгаку , с нашей точки зрения, можно отнести к традиционному для культур Востока понятию «устной народной драмы». К ее характерным чертам, сформулированным отечественными театроведами и музыковедами, относятся: формирование явления на основе календарно-земледельческих обрядов; ритуальность как неотъемлемая черта традиционного музыкально-сценического искусства, обусловленная многовековым господством культового мировоззрения; каноничность, нормативность искусства; синтетичность особого рода, свойственная традиционному искусству, выросшая из синкрезиса; изустность, как основа передачи звучащего ряда представления; импровизационность; условность; символичность, пронизывающая все уровни сценического искусства; эффектность, красочность действа [Дубровская, 1985. С. 17-18]. Все эти черты в разных соотношениях можно видеть и в современных представлениях дэнгаку , сохранивших ярко самобытный облик в качестве явления национальной традиционной культуры.
Таким образом, рассматривая современную ситуацию бытования дэнгаку , мы можем определить его как древнее феноменальное явление национальной культуры, понимаемое в наши дни преимущественно в качестве традиционного вида искусства музыкальнодраматического характера, которое наряду с ритуальной составляющей включает и зрелищную сторону. Заметим, что, как и его древнейший прототип, дэнгаку и в представлениях современных японцев имеет своей целью способствование хорошему урожаю и изгнание демонов. Корень подобного восприятия кроется в глубоко сакральном генезисе этого явления традиционной культуры японцев.
JAPANESE TRADITIONAL AGRICULTURAL PERFOMANCES DENGAKU : THE QUESTION ABOUT CLASSIFICATION OF A PHENOMENON