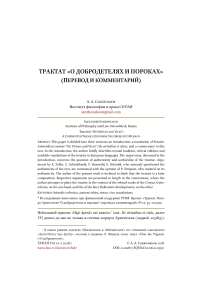Трактат "О добродетелях и пороках" (перевод и комментарий)
Автор: Санженаков Александр Афанасьевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Статья в выпуске: 2 т.10, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья включает в себя предисловие к переводу трактата Псевдо-Аристотеля «О добродетелях и пороках» ( De virtutibus et vitiis ), сам перевод и комментарий к нему. В предисловии кратко рассказывается о рукописной традиции, критических изданиях греческого текста и переводах на европейские языки. Значительная часть предисловия посвящена проблеме аутентичности и авторства трактата. Изложены аргументы Э. Целлера, К. Шухардта, Ф. Зуземиля, Э. Шмидта против аутентичности текста. С другой стороны, приведены аргументы П. Симпсона в пользу подлинности трактата. Автор статьи склоняется к первой точке зрения, указывая на недостатки позиции Симпсона. За предисловием следует перевод трактата и комментарий. Комментарий составлялся с двойной целью. Необходимо было показать связь переводимого текста с этическими сочинениями из Корпуса Аристотеля, с одной стороны, и обнаружить разночтения с ними - с другой.
Аристотель, эклектизм, античная этика, добродетель, порок, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/147103486
IDR: 147103486
Текст научной статьи Трактат "О добродетелях и пороках" (перевод и комментарий)
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Трактат Псевдо-Аристотеля “О добродетелях и пороках”: перевод и комментарий» № 14–33–01271а2.
Небольшой трактат «Περὶ ἀρετῶν καὶ κακιῶν»1 (лат. De virtutibus et vitiis , далее VV ) дошел до нас не только в составе корпуса Аристотеля (1249a26–1251b37).
Также он полностью содержится в «Антологии» Стобея (Stob. III, Hense, 137,6–148,12) и в сочинении «О страстях» Псевдо-Андроника (с измененной последовательностью и стоическими вставками). В трактате представлены определения добродетелей и пороков с их подробной классификацией.
Кодексы
Относительно рукописной традиции Э. Шмидт во введении к переводу (Schmidt 1986) сообщает следующее. В каталоге греческих рукописей аристотелевских текстов А. Вартеля числится 59 рукописей VV (Wartelle 1963). Большинство кодексов датируются XV веком, некоторые XIII и XIV. Самым древним кодексом (X в.) является Московский (Cod. Mosqu. 231), записанный в 932 году для архиепископа Арефы (ок. 850 – после 934). Эта рукопись, обнаруженная А. И. Сонни, была опубликована в журнале «Филологическое обозрение» (Сонни 1894, 97–102) уже после издания Зуземиля, поэтому не могла быть учтена последним. Другой кодекс, столь же древний и тоже не учтенный Зуземилем, – Лейпцигский (Leipziger Codex gr. 16). Так как обе рукописи относятся к разным «семействам», их совместное использование повышает уровень достоверности издания. Исходя из последнего, ясно, что издание Зуземиля давно уже устарело и текст VV требует нового критического издания. Однако в полной мере такая работа до сих пор не осуществлена. Хотя Э. Шмидт максимально попытался исправить положение, ознакомившись с доступными ему кодексами и учтя те, которые не были использованы Зуземилем, греческого текста с новым критическим аппаратом он не представил, довольствовавшись исправлением некоторых мест.
Относительно этого же вопроса Х. Рекхэм сообщает следующее. Зуземиль использует главным образом четыре рукописи:
Lb, парижскую рукопись XII в. Никомаховой этики, которая содержит «О добродетелях и пороках» в приложении, при ближайшем рассмотрении, вероятно, датирующуюся началом XIII в.;
Fc, Лаврентийская рукопись XIV в.;
И две рукописи из Мадрида: одна сгруппирована с Fc, другая – с Lb, как и шесть других XV и XVI вв. (Rackham 1935, 487).
Об изданиях греческого текста
Впервые текст VV был подготовлен и издан И. Беккером в 1833 году. Существенным недостатком этого издания является отсутствие каких-либо критических примечаний. После этого Ф. Зуземиль в 1884 году издает VV в приложении к «Евдемовой этике». В его издании содержится полный критический аппарат, поэтому подавляющее большинство переводчиков работают с его изданием, хотя есть исключения (например, Рекхэм делает перевод с издания Беккера, однако учитывает некоторые правки Зуземиля). Вместе с тем издание Зуземиля не лишено недостатков, на которые неоднократно указывал Э. Шмидт.
О переводах на европейские языки
Существует два перевода трактата на английский язык. Первым был издан перевод Дж. Соломона (J. Solomon) в 1915 году в издательстве «Кларендон» под общей редакцией У. Д. Росса (W. D. Ross). Другой перевод, выполненный Х. Рекхэмом (H. Rackham), был издан в знаменитой Loeb Classical Library в 1935 году (Vol. 20). В 1965 г. Э. Шмидт сделал перевод на немецкий язык, снабдив его подробнейшим стостраничным комментарием. Безусловным достоинством перевода Шмидта является его критическая работа с кодексами. Как было сказано выше, при подготовке своего перевода Шмидт использовал два самых ранних кодекса – Московский и Лейпцигский. На русский язык трактат впервые был переведен в 1787 году под названием «Рассуждения Аристотелевы о добродетелях и пороках». Этот перевод вряд ли имеет на данный момент какую-либо научную ценность, поскольку выполнен с латинского текста, и является библиографической редкостью. Поэтому единственным актуальным переводом на русский язык является перевод Татьяны Адольфовны Миллер.
Композиция трактата
Сочинение имеет четкую и жесткую структуру. Во введении (1249a26– 1250a2) постулируется различение двух предельных моральных категорий – прекрасного и безобразного, с которыми сопрягаются добродетели и пороки (49a26–30). Затем все добродетели соотносятся с тремя частями души – рассчитывающей, яростной и вожделеющей (49a30–b29). Отдельно выделяется три добродетели души в целом (ὅλης δὲ τῆς ψυχῆς). То же самое проделывается с пороками (49b29–50a2). После этого дается краткое определение добродетелей (50a3–15) и пороков (50a16–29). Далее приводится развернутая характеристика всех добродетелей (50a30–b42) и пороков (50b43–51b25), при этом к основному списку добавляются второстепенные добродетели и пороки (или подвиды основных). В заключении (51b26–37) речь идет об общих свойствах добродетели и порока.
Влияние и значение
Исходя из большого количества кодексов и наличия двух параллельных традиций передачи текста (через Стобея и Псевдо-Андроника), следует за- ключить, что сочинение это было чрезвычайно востребованным. Такое исключительное положение объясняется списком добродетелей и пороков, включенных в эту работу. Всеохватность и общепризнанность этого списка привели к тому, что он активно распространялся и перерабатывался, изменяясь и расширяясь. О рецепции этого трактата византийской, новогреческой, арабской, латинской и армянской этическими традициями см. Cacouros (2003). Также востребованность VV может быть объяснена тем, что некоторое время он являлся единственным источником, из которого возможно было черпать информацию об аристотелевской этике, когда сочинения самого Аристотеля были недоступны.
Проблема аутентичности
Вопрос авторства трактата – предмет неослабевающего интереса исследователей на протяжении многих десятилетий.
Долгое время автором VV считался Аристотель. Но, начиная с XVI в., аутентичность текста стала подвергаться сомнению (Cacouros 2003, 516). В итоге в XIX веке Э. Целлер и К. Шухардт доказали неподлинность трактата, отнеся его к периоду позднего эклектизма. Целлер обратил внимание на то, что (1) способ описания и классификации добродетелей и пороков в рассматриваемом сочинении характерен для перипатетической школы периода после Теофраста. Также Целлера насторожила (2) солидаризация автора трактата с Платоном по вопросу трехчастного деления души. Это обстоятельство выдает в авторе позднего перипатетика (ранние перипатетики не были так платонически настроены). По мнению Целлера, (3) говорить о сходстве, даже внешнем, со стоицизмом едва ли возможно, хотя он обращает внимание на жесткий «стоический» ригоризм парных противоположностей ἐπαινετά (достойное похвалы) и ψεκτά (порицаемое) в начале и в конце трактата. Наконец, (4) автор трактата помещает демонов (δαίµονες) между богами и родителями (VV 1250b20), что, с точки зрения Целлера, говорит о влиянии пифагорейских «Золотых стихов».2 Ср.: «Прежде всего почитай бессмертных богов, соблюдая / Их старшинство согласно закону, и верным будь клятве, / Славных героев, подземных демонов чти по закону, / Мать и отца уважай, проявляй внимание к ближним» (Петер 2000, 9). Опираясь на вышеизложенные доводы, Целлер сделал вывод о том, что Аристотель этого сочинения не писал, а искомый автор трактата, скорее всего, является перипатетиком периода эклектизма (Zeller 1923, 670–71).
Во многом соглашаясь с Целлером, филолог К. Шухардт (Schuchhardt) более решительно поместил работу в период эклектизма, назвав в качестве датировки I в. до н. э. При этом он отметил, что оппозиция ἐπαινετά / ψεκτά может иметь своим источником «Риторику» Аристотеля ( Rhet . 1366a23–25, 33–36). В самом деле: в первой книге в начале девятой главы говорится: «Вслед за этим поговорим о добродетели и пороке, прекрасном и постыдном (καλοῦ καὶ αἰσχροῦ), потому что эти понятия являются объектами для человека, произносящего хвалу (ἐπαινοῦντι) или хулу (ψέγοντι)» (Платонова 1978, 43). Точно таким же по смыслу заявлением начинается исследуемый трактат: «Прекрасное (τὰ καλά) достойно похвалы (ἐπαινετὰ), безобразное (τὰ αἰσχρά) – порицания (ψεκτὰ). Прекрасные [вещи] возглавляются добродетелями, безобразные – пороками. Достохвальными являются как причины добродетелей и сопутствующее добродетелям, так и то, что происходит от них, и деяния их, а противоположное достойно порицания» (1249а26–30).
Развивая увиденную Шухардтом связь VV c Rhet. Ι 9, Э. Шмидт (Schmidt 1986, 56) указывает на другие параллели. В частности, он усматривает сходство в определении рассудительности (φρόνησις). В Rhet. I 9 (1366b20–22) φρόνησις определяется как «интеллектуальная добродетель (ἀρετὴ διανοίας), в силу которой люди в состоянии здраво судить о значении перечисленных выше благ и зол для блаженства (εὐδαιµονίαν)» (Платонова 1978, 44). В рассматриваемом нами трактате рассудительность есть «добродетель рассчитывающей части души (λογιστικοῦ), способная обеспечить то, что приводит к счастью (εὐδαιµονίαν)» (VV 1250а3–4). Также Шмидт отмечает, что подобным образом рассудительность представлена и в псевдоплатоновских «Определениях» (Def. 411d5). Тем не менее Шмидт не считает сочинение подлинным, обосновывая свою точку зрения (5) поздней лексикой (ἀµνηµοσύνη, ἀπότευγµα, χαυνοῦσθαι, µεµψιµοιρία, ἀνόρεκτος), которая не встречается ни в одном сочинении Аристотеля (Schmidt 1986, 19). Дополнительным аргументом в пользу неподлинности VV для Шмидта является следующее обстоятельство. Автор VV ничего не сообщает о добродетели как середине между двумя пороками-крайностями. В то же время Шмидт не согласен с Целлером относительно поздней датировки трактата. По его мнению, VV был написан раньше периода эклектизма. Отказываясь видеть хоть какие-то отголоски стоического влияния в тексте VV, он приходит к выводу, что текст относится к раннему периоду перипатетической школы и должен датироваться вре- менем Теофраста.3 Таким образом, датировка Шмидта – конец IV – начало III вв. до н. э. Следует отметить, что с этим решением согласились не все исследователи (см. Glibert-Thirry 1977, 7–9; Kraye 1981, 132).
Редактор «Евдемовой этики» (в приложении к которой было опубликовано VV ) Ф. Зуземиль (Susemihl), принимая доводы Целлера и Шухардта, заключил, что эта работа есть продукт «философа-эклектика небольших умственных способностей», который ставил своей целью примирение аристотелевского и платоновского моральных учений. Он датирует трактат не ранее, чем I в. до н. э., или же I в. н. э.
Нет полной ясности со стоическим влиянием на автора трактата. Как мы уже видели выше, исследователи совершенно справедливо отказываются видеть в парных оппозициях ἐπαινετά / ψεκτά стоический «след». В тоже время высказываются предположения, что стоический элемент может быть усмотрен в том, что одни добродетели рассматриваются в тексте VV как главенствующие, а другие – как их подвиды (Schmidt 1986, 19). Такой способ выстраивания связи характерен для Хрисиппа, различающего πρῶται ἀρεταί и ἀρεταὶ ὑποτεταγµέναι (ФРС III 264, 265). Со своей стороны мы отметим, что решению этого вопроса может способствовать обращение к такому подвиду гневливости, как досада (βαρυθυµία). Ни в одном сочинении Аристотеля мы не встретим упоминания об этом пороке, в то время как в сочинении Андроника Родосского приводится определение этого порока, которое дал Хрисипп, – «скорбь отягощающая и не дающая передышки» (ФРС III 414). Подобные довольно блеклые приметы дают некоторые основания решать вопрос стоической зависимости автора VV положительным образом, однако основания эти столь зыбкие, что мы не беремся высказывать окончательное решение по этому вопросу.
Из вышесказанного очевидно, что большинство исследователей обоснованно сомневаются в подлинности VV, но не имеют единого мнения относительно его датировки. Впрочем, в последние годы мы можем наблюдать отказ от гиперкритического взгляда на это сочинение и попытки вернуть авторство Аристотелю. Уже в середине прошлого века появились работы (Zurcher 1952; Gohlke 1944), авторы которых высказывают сомнения в весомости аргументов в пользу неподлинности трактата. Возражения, например, приводятся следующего порядка: учение о середине отсутствует в тексте VV потому, что Аристотель написал его на раннем этапе своего творческого пути. Исходя из этого же допущения, объясняются присутствующие в сочинении платонические элементы. Одной из последних работ, написанных в подобном ключе, является статья П. Симпсона, в которой он приходит к выводу о недостаточной убедительности аргументов в пользу неподлинности этого сочинения. Поэтому, заключает Симпсон, следует довериться традиции, которая приписывает авторство Стаги-риту (Simpson 2013).
Следует отметить, что гипотеза Симпсона подкрепляется частичным совпадением списка добродетелей из VV со списком добродетелей из «Ев-демовой этики» (1220b38–1221a12). В последней обнаруживаются такие специфические добродетели, как кротость (πρᾳότης), щедрость (ἐλευθεριότης) и величавость (µεγαλοψυχία). При этом некоторые добродетели в VV определяются точно также, как в «Никомаховой этике». Например, явная параллель обнаруживается в истолковании такой добродетели, как воздержанность (ἐγκράτεια). Автором VV воздержанность определяется как «добродетель вожделеющей части души, благодаря которой [люди] подавляют рассуждением влечение, устремляющее к дурным удовольствиям» (1250а5–7), а в EN воздержанный человек определяется как тот, кто, «зная, что [его] влечения дурны, не следует им благодаря [рас]суждению (διὰ τὸν λόγον)» (1145b13–14).4 Несмотря на некоторые разночтения, родственность определений очевидна.
Тем не менее подобных аналогий, конечно, недостаточно для убедительного обоснования подлинности текста, поэтому мы не склонны видеть в авторе трактата Аристотеля. В первую очередь, такое убеждение проистекает из догматического характера сочинения, автор которого не рассуждает, а просто излагает фактический материал нарративно-безапелляционным тоном. Такой способ подачи может объясняться целью автора трактата – изложить бытующие в этот период общепризнанные моральные нормы и факты моральной эмпирии. Если следовать установившемуся мнению о разделении всего аристотелевского наследия на три группы текстов: экзотерические сочинения (для широкого круга читателей, главным образом диалоги), собрание материалов (эмпирическая база) и эзотерические сочинения (научные трактаты, часто в виде лекций), – то VV мог относиться ко второй группе текстов, то есть являлся эмпирической базой для последующих теоретических построений. Именно к такому заключению приходит П. Симпсон. С его точки зрения, содержание VV может идти вразрез с взглядами Аристотеля, но это вовсе не отменяет его авторства, потому что все сказанное в VV – это материалы, явления и endoxa , из которых Аристотель
А. А. Санженаков / ΣΧΟΛΗ Vol. 10. 2 (2016) 761 мог уже выстроить собственные, более четкие умозаключения (Simpson 2013, 659).
Предложенная гипотеза многое объясняет, но упускает из вида следующие обстоятельства. Во-первых, эндоксический материал по определению содержит такие характерные вставки, как «принято считать», «по общему мнению» и т. д. Пример endoxa , начинающегося со слов «принято считать, что», продолжающегося словами «по мнению одних…, а по мнению других…» и заканчивающегося словами «вот что, стало быть, говорится обычно», можно прочитать в EN 1145b8–20. В исследуемом трактате мы ничего подобного не обнаруживаем. Во-вторых, VV имеет жесткую структуру. За редким исключением, автор придерживается строгой последовательности изложения. Сначала приводится родовидовое определение добродетели или порока (в качестве рода выступает привязка к той или иной части души), затем дескриптивное определение, наконец, перечисляются сопутствующие свойства. Возьмем для примера мужество. Родовидовое определение: «Мужество – это добродетель яростной части души (θυµοειδοῦς), благодаря которой трудно поддаются страху смерти» ( VV 1250a6–7). Дескриптивное определение: «Мужеству свойственно трудно поддаваться страху смерти, быть бесстрашным перед тем, что внушает ужас, и отважным перед лицом опасности, ему свойственно предпочесть скорее славную погибель, нежели позорное спасение, и быть причиной победы. Также мужеству свойственно трудиться, иметь выдержку и выказывать свою мужественность» ( VV 1250a44–b4). Перечисление сопутствующих свойств: «Мужеству сопутствуют (παρέπεται) отвага, решимость, смелость, а кроме того, трудолюбие и выносливость» ( VV 1250b4–6). По этой схеме прописаны все добродетели и пороки. В редких случаях отсутствует один из элементов схемы. В некоторых она дополняется разделением на три вида, о чем мы скажем ниже. Подобный схематизм никак не согласуется с изложением эн-доксического материала.
Во-вторых, по мнению Симпсона, одним из аргументов в пользу авторства Аристотеля является неявная ссылка на VV в «Евдемовой этике». Во второй книге EE сказано: «…в уже завершенных книгах (ἐν τοῖς ἀπηλλαγµένοις) проведено разделение “движений чувств” (τῶν παθηµάτων), “возможностей” (τῶν δυνάµεων) и “свойств” (τῶν ἕξεων)» (EE 1220b10–13). Приведя несколько определений добродетелей и пороков из VV, Симпсон заявляет, что все они выстроены на основе этого разделения. Чтобы разъяснить суть предложенного подхода, снова возьмем для примера мужество. В рамках предлагаемой интерпретации в дефиниции «Мужество – это добродетель гневливой части, не дающая поддаться страху смерти» гневливая часть души соответствует «возможности» (альтернативный перевод – «предрасположенность», «способность», Симпсон переводит δύναµις как ‘a power’), «не дающая поддаться страху» соответствует «свойству» (в ином переводе – «состояние», «устой», а у Симпсона – ‘a habit’), а сам страх смерти – «движению чувств» (Симпсон переводит просто как ‘a passion’) (Simpson 2013, 658). С одной стороны, такое толкование, хоть и с некоторыми оговорками, вполне допустимо. В самом деле, части души могут пониматься как δυνάµεις. Аристотель в De anima ведет речь о растительной и мыслительной способностях и способности ощущения (415a). Другой вопрос, который мы оставим открытым: насколько возможно смешение данной философской традиции с платоническим пониманием души? Кроме того, вызывает сомнение сама возможность связи EE и VV. Зачем идентифицировать VV как то самое аристотелевское сочинение, на которое дается ссылка в EE 1220b10–13, в то время как надежнее и проще было бы в этом качестве представить EN и MM. Действительно, и в «Никомаховой этике» (1105b20), и в «Большой этике» (1186a12) мы обнаруживаем постулат о том, что в душе находятся движения чувств, способности и состояния. Поэтому куда более вероятно, что в EE делается ссылка на эти два этических сочинения, нежели на VV.
В связи с вышесказанным предложенный П. Симпсоном выход из ситуации мы считаем не вполне удачным. Учитывая догматизм, болезненное стремление к систематизации, желание примирить Аристотеля и Платона, отсутствие учения о добродетели как середине между двумя крайностями пороками, мы вынуждены вслед за Целлером отнести это сочинение к псев-доаристотелевским, а его автора поместить в период эклектизма.
В целом трактат «О добродетелях и пороках» может расцениваться как образчик догматизации живой философии и в то же время эклектизма, направленного на примирение двух родственных и вместе с тем глубоко отличных друг от друга философских традиций – платоновской и аристотелевской, а также как пример античного жанра «нравоописания».
О ДОБРОДЕТЕЛЯХ И ПОРОКАХ Corpus Aristotelicum 1249a26–1251b37
1249a26 Прекрасное достойно похвалы, безобразное – порицания. Прекрасные [вещи] возглавляются добродетелями, безобразные – пороками. Достохвальными являются как причины добродетелей и 30 сопутствующее добродетелям, так и то, что происходит от них, и
1249b26 деяния их, а противоположное достойно порицания. Если согла- ситься с трехчастным делением души Платона, то добродетель рассчитывающей части души есть рассудительность, яростной части – кротость и мужество, вожделеющей части – благоразумие и воздержанность, добродетелями души в целом являются спра-30 ведливость, щедрость и величавость. Порок рассчитывающей части души есть безрассудство, яростной части – гневливость и тру-1250a1 сость, вожделеющей части – распущенность и невоздержанность, пороками души в целом являются несправедливость, скупость и приниженность.
Рассудительность – это добродетель рассчитывающей части 5 души, способная обеспечить то, что приводит к счастью. Кротость – это добродетель яростной части души, благодаря которой становятся не склонными к гневу. Мужество – это добродетель яростной части души, благодаря которой трудно поддаются страху смерти. Благоразумие – это добродетель вожделеющей части души, благодаря которой не стремятся к вкушению дурных 10 удовольствий. Воздержанность – это добродетель вожделеющей части души, благодаря которой подавляют рассуждением влечение, устремляющее к дурным удовольствиям. Справедливость – это добродетель души [в целом], распределяющая по достоинству. Щедрость – это добродетель души [в целом], которая много расходует на прекрасные вещи. Величавость – это добродетель души 15 [в целом], благодаря которой [люди] способны переносить успех и неудачу, честь и бесчестье.
Безрассудство – это порок рассчитывающей части души, причина порочной жизни. Гневливость – это порок яростной части души, благодаря которой становятся склонными к гневу. Трусость – это порок яростной части души, из-за которого [люди] обуреваются 20 страхами, особенно страхом смерти. Распущенность – это порок яростной части души, из-за которого [люди] стремятся к вкушению дурных удовольствий. Невоздержанность – это порок яростной части души, из-за которого [люди] избирают дурные удовольствия, хотя рассуждение противится этому. Несправедливость – это порок 25 души в целом, из-за которого [люди] присваивают себе больше, чем заслуживают. Скупость – это порок души в целом, из-за которого [люди] стремятся из всего извлечь выгоду. Приниженность – это порок души в целом, из-за которой [люди] не способны вынести ни успеха, ни неудачи, ни чести, ни бесчестия.
Рассудительности свойственно разумно принимать решения и
30 правильно судить о том, что есть благо и что есть зло, и обо всем том, что в жизни следует избирать и чего следует избегать, прекрасно пользоваться всеми имеющимися в наличии благами, правильность в общении, также ей свойственно всему знать подходящее время, находчиво пользоваться словом и делом, иметь опыт во всем, что полезно. Памятливость, опытность, деликатность в общении, разумность в решениях и проницательность – или же от
35 рассудительности каждая происходит, или сопутствуют рассудительности. В противном случае одни из них являются некими второстепенными причинами рассудительности, как опытность и памятливость, другие же – как бы ее частями, подобно разумности в принятии решений и проницательности. Кротости свойственно быть способной терпеливо переносить упреки и пренебрежение, если оно не превышает всякую меру, не скоро [поддаваться] по-
40 рыву к отмщению, не быть склонной к гневу, [иметь] нрав не злобный и не вздорный, имея в душе спокойствие и выдержку. Мужеству свойственно трудно поддаваться страху смерти, быть бесстрашным перед тем, что внушает ужас, и отважным перед лицом опасности, ему свойственно предпочесть скорее славную по-
-
45 гибель, нежели позорное спасение, и быть причиной победы.
1250b1 Также мужеству свойственно трудиться, иметь выдержку и выказывать свою мужественность. Мужеству сопутствуют отвага, решимость, смелость, а кроме того, трудолюбие и выносливость.
-
5 Благоразумию свойственно не приходить в восторг от вкушения телесных удовольствий, не испытывать стремления ко всему, что способно принести постыдное удовольствие, страшиться дурной славы, упорядочивать жизнь как в малом, так и в великом. Благоразумию сопутствуют строгий порядок, благопристойность, стыд-
-
10 ливость, осмотрительность. Воздержанности свойственна способность сдерживать рассуждением влечение, устремляющее к вкушению дурных удовольствий, быть терпеливой и стойкой при перенесении естественной нужды и страдания. Справедливости свойственно распределять каждому по достоинству, блюсти обы-
-
15 чаи и установления предков, соблюдать писаные законы, быть правдивой в важных вопросах и соблюдать договоренности. Прежде всего следует исполнять обязанности по отношению к богам, затем – к демонам, потом – к отечеству и родителям, а потом – к усопшим. В этом и заключается благочестие, которое либо
-
20 является частью справедливости, либо сопутствует ей. Сопутству-
- ют же справедливости праведность, правдивость, доверие, ненависть к пороку. Щедрости свойственно тратить деньги на похвальные вещи, быть расточительной в тратах на что-то надлежащее, помогать деньгами, не брать оттуда, откуда не следует.
25 Щедрый человек содержит в чистоте свое жилье и одежду, он окружает себя излишними и прекрасными вещами, позволяющими приятно, но бесполезно проводить время, он взращивает своеобразных или удивительных животных. Сопутствуют же щедрости
30 мягкость и податливость характера, человеколюбие, сострадательность, дружелюбие, гостеприимство и любовь к прекрасному. Величавости свойственно прекрасно переносить счастье и несчастье, честь и бесчестье, не восхищаться ни роскошью, ни вниманием, ни могуществом, ни победами на состязаниях, но иметь не-
35 которую глубину и величие души. Величавым не может быть ни тот, кто придает жизни большое значение, ни тот, кто цепляется за жизнь. Величавым является тот, кто прост нравом и благороден, кто способен перенести беззаконие [по отношению к себе] и не мстителен. Сопутствуют же величавости простота и правдивость.
40 Безрассудству свойственно неправильно судить о вещах, неудачно принимать решения, трудно общаться [с людьми], неправильно использовать наличные блага, иметь ложное мнение о том, что является благим и прекрасным для жизни. Безрассудству 45 сопутствуют невежество, неопытность, невоздержность, неуклю-1251a1 жесть, забывчивость. Гневливость имеет три вида: вспыльчивость, огорчение, досада. Гневливый не может вынести ни малейшего пренебрежения, ни умаления, ему свойственно карать и мстить, он легкоподвижен на гнев из-за любого случайного слова или дела. Сопутствуют же гневливости легковозбудимый нрав, непосто-5 янство, мелочность, огорчение по пустякам, которое быстро овладевает, но краткосрочно. Трусости свойственно легко поддаваться всевозможным страхам, особенно страху смерти и телесных увечий, она убеждена, что лучше спастись каким угодно образом,
10 нежели славно погибнуть. Сопутствуют же трусости изнеженность, отсутствие мужества, необремененность, привязанность к жизни, в основе же этого лежит некая осмотрительность и уступчивость нрава. Распущенности свойственно избирать вкушение вредных и дурных удовольствий и полагать самыми счастливыми 15 тех, кто живет в таких удовольствиях, ей свойственны также любовь к смеху, шуткам, игривости, легкомыслие в словах и делах.
Сопутствуют же распущенности беспорядок, бесстыдство, неряшливость, роскошь, беспечность, беззаботность, небрежность, раз-20 вязность. Невоздержанности свойственно избирать вкушение удовольствий вопреки рассуждению, быть убежденной в том, что лучше не иметь отношения к этому (т.е. к вкушению удовольствий), но поступать иначе, знать, что должно поступать прекрас-25 но и полезно, однако воздерживаться от этого в пользу удовольствий. Сопутствуют же невоздержанности изнеженность, беспечность и большая часть того, что сопутствует распущенности. Несправедливость имеет три вида: нечестие, своекорыстие и оскорбление. Нечестие – это неправедное отношение к богам, де-30 монам, усопшим, родителям и отечеству. Своекорыстие – это нарушение договоров, когда берут деньги сверх должного. Оскорбление – это получение удовольствия от причинения позора другим, поэтому Эвен о нем говорит: «Никакой выгоды не получает, однако поступает несправедливо». Несправедливости 35 свойственно нарушать обычаи и установления предков, не повиноваться законам и предводителям, обманывать, преступать клятвы, не соблюдать договоренности и ручательства. Сопутствуют же несправедливости доносительство, хвастовство, притворное чело-1251b1 веколюбие, злонравие и изворотливость. Скупость имеет три вида: позорный способ наживы, скаредность и скряжничество. Позорный способ наживы – это когда повсюду ищут выгоду и ради прибыли готовы терпеть позор. Скряжничество же – это когда не 5 тратят деньги даже на самое необходимое. Скаредность – это когда тратятся мелко и дурно, и больше теряют, оттого что невовремя производят расходы. Скупости свойственно выше всего ценить деньги, не считать позорным ничто из того, что приносит при-10 быль, – низкий, рабский, бесчестный образ жизни и все, что не свойственно гордости и независимости. Сопутствуют скупости мелочность, досада, приниженность, низость, неумеренность, не-породистость, человеконенавистничество. Приниженность не способна вынести ни чести, ни бесчестия, ни успеха, ни неудачи, 15 но ей свойственно возноситься от почестей и возвеличиваться от малого успеха, однако она не способна вынести даже малейшего непочтения, всякую же оплошность считает большой неудачей, постоянно сетует и мучается от всего. Наконец, приниженным является такой человек, который всякое небрежение расценивает 20 как оскорбление и непочтение, даже если оно происходит по не- знанию или от забывчивости. Приниженности сопутствуют мелочность, недовольство своей судьбой, отчаяние и уныние.
В целом же добродетели свойственно приводить душу в превосходное состояние, делая ее движения спокойными и упорядо-25 ченными, согласовывая все части души. Поэтому считается, что состояние совершенной души является образцом для хорошо устроенного государства. Добродетели свойственно делать добро достойным [людям], любить добродетельных и ненавидеть порочных, ей не свойственно быть карающей и мстительной, но ми-30 лостивой, благожелательной и снисходительной. Сопутствуют же добродетели порядочность, кротость, дружелюбие, добрая надежда, добрая память, и к тому же такие [качества], как любовь к близким, к друзьям и товарищам, к иноземцам, к людям вообще и ко всему прекрасному: все это, несомненно, является достохваль-ным. Пороку же, напротив, сопутствует противоположное этому.
35 Все, что сопутствует пороку, является порицаемым.
К омментарий
При подготовке комментария были учтены следующие работы: Schmidt 1986; Cacouros 2003. Также учитывались переводы Rackham 1952; Solomon 1915; Миллер 1978.
Основной своей задачей при составлении данного комментария автор видел помещение текста в контекст аристотелевской традиции, с одной стороны, и обнаружение разногласий с этой традицией – с другой.
1249a26-27 «ἐπαινετὰ [µέν] ἐστιν τὰ καλά…». Сочинение начинается с разграничения двух областей – прекрасного и безобразного. Первые строки трактата и, как будет далее видно, весь текст имеют тесную связь с «Риторикой» Аристотеля ( Rhet . I 9). Ср .: «Вслед за этим поговорим о добродетели и пороке (ἀρετῆς καὶ κακίας), прекрасном и постыдном (καλοῦ καὶ αἰσχροῦ), потому что эти понятия являются объектами для человека, произносящего хвалу или хулу (oxonol та enaivouvTi Kal ^eyovti)»5 ( Rhet . 1з66а23-25). Вероятно, автор VV опирался при написании своего сочинения на Rhet . I 9. Впрочем, с тем же успехом первые строки VV могут иметь своим источником вторую книгу EE : «^ те арет^ ка1 ^ кaк^a ка1 та ап’ auTwv s'pYa та ^ev Enaivsra та δὲ ψεκτά» (1223a9–10). Также ср.: EE VIII, 1248b19–23; MM II 9, 1207b29.
В этом месте некоторые затруднения вызывает глагол ἡγέοµαι. Англоязычные авторы единодушно переводят его как «(at the head of…) stand».6 Шмидт переводит как «fuhren» (вести, руководить, возглавлять). Наконец, в русском переводе стоит «правят». Для определения русскоязычного аналога следует задаться вопросом: что в целом значит фраза twv KaXwv ^YOUVTai al ἀρεταί? В каком смысле «прекрасным правят добродетели»? Представляется, что здесь автор подразумевает первенство добродетелей по отношению к прекрасному в том смысле, что за добродетелями следует прекрасное,7 первые предвосхищают последние. Поэтому вместо слова «правят» уместнее поставить «предводительствуют» или «возглавляют». Шмидт полагает, что отношения между добродетельными действиями и прекрасным через ἡγέοµαι здесь не следует понимать как первостепенность первых и подчиненность вторых. «Добродетель властвует над прекрасным» подразумевает лишь то, что она есть другой вариант избираемого.
49a28-30 «ἐπαινετὰ δέ ἐστι καὶ τὰ αἴτια… ψεκτὰ δὲ τὰ ἐναντία». Эти строки в английском и русском переводах начинаются с заключения, внешне напоминающего логический вывод: «consequently» (Rackham 1952, 489), «then» (Solomon 1915, 1249a), «посему» (Миллер 1978, 527). Э. Шмидт считает этот перевод ошибочным: «Речь не идет о том, что в некотором силлогизме доказывается достохвальность добродетели. По-видимому, это недоразумение покоится на добавлении шоте EnaiVETa ^ev al apETal (49a28) из рукописи Псевдо-Андроника, которое никоим образом не относится к тексту трактата» (Schmidt 1986, 29).
Следует обратить внимание на то, что в строках a28–30 существует точное соответствие с Rhet. 1366b25–28. В тексте VV (а28–30)8 сказано, что досто-хвальными являются причины добродетелей (τὰ αἴτια τῶν ἀρετῶν), то, что сопутствует добродетелям (τὰ παρεπόµενα ταῖς ἀρεταῖς), то, что происходит от них (та ytvo^Eva an’ auTwv), и деяния их (та spya auTwv). В Rhet. (i366b25—28)9 говорится о том, что прекрасным является как все производящее доброде- тель (τά ποιητικὰ τῆς ἀρετῆς), поскольку имеет отношение к добродетели (πρὸς apET^v Y“P)> так и все то, что производится от добродетели (та ап’ арет^д γινόµενα), как то: проявления (τά σηµεῖα) и дела добродетели (τὰ ἔργα). Очевидное соответствие прослеживается в следующем:
τά ποιητικὰ τῆς ἀρετῆς (πρὸς ἀρετὴν) в Rhet . соотв . τὰ αἴτια τῶν ἀρετῶν в VV .
та ап’ арет^д yivopeva. в Rhet . соотв . та yivopeva ап’ auTwv в VV.
τὰ ἔργα в Rhet . соотв . τὰ ἔργα αὐτῶν в VV .
Остается вопрос относительно τὰ παρεπόµενα из VV . Чему оно соответствует в Rhet .? Шмидт считает, что τὰ παρεπόµενα соответствует τά σηµεῖα из Rhet . По этому вопросу мы не беремся дать окончательный ответ. Ta опреТа может пониматься и как сопутствующее добродетели, и как порожденное добродетелью – все зависит от того, как интерпретировать подытоживающее то1аита: объединяет ли оно та по1пт1ка т^д арет^д и та ап’ арет^д yivopeva, или же относится исключительно к τὰ γινόµενα.
Учитывая связь VV а28–30 с Rhet . 1366b25–28, мы посчитали уместным ввести в перевод конструкцию «как…, так…», которая явно просматривается в Rhet. и призвана отделить причины добродетели от следствий – с одной стороны, и приравнять их значение – с другой. Этой конструкцией в переводе показано, что хотя τὰ αἴτια имеет место до добродетели, τὰ παρεπόµενα, сопровождая добродетель, не может к ней относиться по существу, а τὰ γινόµενα и τὰ ἔργα напрямую связаны с добродетелью как следствие и результат оной, тем не менее все эти элементы равноценно похвальны.
49a30–b29 «τριµεροῦς δὲ τῆς ψυχῆς... καὶ ἡ µεγαλοψυχία». В этом месте автор связывает перипатетическую и платоническую линии философии. С одной стороны, речь идет о платоновском делении души на три части (см. Resp . 439d–441a; Tim . 69с–70е) и четырех платоновских кардинальных добродетелях, с другой – к списку добродетелей добавляются такие перипатетические добродетели, как кротость (πραότης), щедрость (ἐλευθεριότης) и величавость (µεγαλοψυχία) (все три входят в список добродетелей из второй книги EE 1220b38–1221a12).
Безусловно, сама по себе отсылка к Платону и его учению о душе никоим образом не доказывает неподлинности сочинения (об этом свидетельствуют другие обстоятельства, о которых уже было сказано в предисловии к переводу), ибо Аристотель часто в своих сочинениях обращался к учению Платона о душе ( EN 1139a5–15; De An . 432a24–b7; Top . 113а25, 126а8).
Автор трактата разделяет добродетели на добродетели отдельных частей души (для каждой части своя добродетель и свой порок) и добродетели всей души. Соотнесение отдельных добродетелей с определенными частями души выглядит вполне в духе Аристотеля. Достаточно вспомнить, что, исходя
770 Аристотелевский корпус. О добродетелях и пороках из деления души, он выделяет дианоэтические и этические добродетели на том основании, что в душе имеется часть, имеющая логос (τὸ λόγον ἔχον), и та, что причастна логосу (µετέχουσα λόγου) ( EN 1102b).
Представляет интерес словосочетание «добродетель души в целом» (ἀρετὴ ὅλης δὲ τῆς ψυχῆς). К добродетелям души в целом автор трактата относит справедливость, щедрость и величавость. Это явно противоречит аристотелевскому учению о добродетелях, поскольку, согласно Аристотелю, все этические добродетели (в том числе щедрость и величавость) локализованы в безлогосной (τὸ ἄλογον) части души ( ММ I 5, 1185b), поэтому никак не могут относиться ко всей душе в целом. Вообще Аристотель ведет речь о добродетели в целом и о частях добродетели ( EN 1130a, EE 1219b21, Rhet . 1366b1), но нигде не говорит о добродетели души в целом.
49b29–50a2 «κακία δέ ἐστιν… καὶ ἡ µικροψυχία». Подобно добродетелям, здесь перечисляются пороки с привязкой к частям души, причем налицо зеркальность.
|
Рассчитывающая (τὸ λογιστικοῦ) |
Яростная (τὸ θυµοειδοῦς) |
Вожделеющая (τὸ ἐπιθυµητικοῦ) |
Душа в целом (ὅλη ἡ ψυχή) |
|
|
s ч у Ен у о о |
Рассудительность (φρόνησις) |
Кротость (πραότης) Мужество (ἀνδρεία) |
Благоразумие (σωφροσύνη) Воздержанность (ἐγκράτεια) |
Справедливость (δικαιοσύνη) Щедрость (ἐλευθεριότης) Величавость (µεγαλοψυχία) |
|
S и о о К |
Безрассудство (ἀφροσύνη) |
Гневливость (ὀργιλότης) Трусость (δειλία) |
Распущенность (ἀκολασία) Невоздержанность (ἀκράτεια) |
Несправедливость (ἀδικία) Скупость (ἀνελευθεριότης) Приниженность (µικροψυχία) |
Список добродетелей по большей части совпадает со списками из EE (1220b38–1221a12) и EN (1107a33–1108b10). В списке из EE φρόνησις противопоставляется двум порокам – хитрость (πανουργία) и бестолковость (εὐήθεια) (1221a12), в то время как в VV указывается ἀφροσύνη. В издании Зуземиля вместо ἀκράτεια стоит ἀκρασία (поздняя форма ἀκράτεια) и вместо ἀνελευθεριότης – ἀνελευθερία.
Автор VV относит невоздержанность к порокам, но Аристотель не считал ее таковой, потому что порочность сознательна, а невоздержанность действует вопреки сознательному выбору (παρὰ προαίρεσιν) ( EN 1151a5–8).
Пара µεγαλοψυχία / µικροψυχία. Перевод-калька «великодушие / малодушие» не совсем верен. Возможно, более точным был бы перевод «возвышенный образ мыслей / низменный образ мыслей», но удачным его назвать нельзя в силу громоздкости.
В списке добродетелей VV отсутствуют великолепие (µεγαλοπρέπεια) и мудрость (σοφία), признававшиеся таковыми Аристотелем.
50а3–29 Приводится краткое определение восьми добродетелей и восьми пороков из основного списка. Все определения строятся по единой схеме: сначала указывается принадлежность определяемого к той или иной части души, затем указывается, какое качество порождается им. При этом используются одни и те же лексемы и формы слов. Ср .:
πραότης δέ ἐστιν ἀρετὴ τοῦ θυµοειδοῦς , καθ᾽ ἣν πρὸς ὀργὰς γίνονται δυσκίνητοι.
ὀργιλότης δέ ἐστι κακία τοῦ θυµοειδοῦς , καθ᾽ ἣν εὐκίνητοι γίνονται πρὸς ὀργήν.
50а3–4 Рассудительность (φρόνησις). Для Аристотеля это одна из важнейших добродетелей, вид изобретательности (ἡ δεινότης); отличительная черта рассудительного – разумно принимать решения (τὸ εὖ βουλεύεσθαι), ее целью является благо, осуществимое в поступках. Явным образом связь человеческого счастья и рассудительности прописана в EN 1143b18–21. О рассудительности как добродетели рассчитывающей части души см. Top. 136b11. Близко к VV понимается рассудительность в Def . 411d5–6.
Дальнейшие определения за некоторым исключением даются по единой схеме: [название добродетели] 8’ ЁогЬ арет^ [часть души] ка9’ ^v [специфицирующие свойства].
50а4–6 Кротость (πραότης). В EN определяется как «обладание серединой в связи с гневом» ( EN 1125b26). Было бы неверно называть кроткого человека безгневным, ему свойственно гневаться, но делает он это к месту, вовремя и в должной мере. Отметим, что словосочетание δυσκίνητος ὑπὸ ὀργῆς (не склонный, не подверженный гневу) не встречается в этических сочинениях Аристотеля, однако отдельно лексема δυσκίνητος довольно часто фигурирует в других сочинениях ( Cat ., Probl ., Part . Anim ., Physiogn ., De Aud .). В издании Зуземиля ὑπὸ ὀργῆς заменено на πρὸς ὀργὰς.
50а6–7 Мужество (ἀνδρεία). По Аристотелю, середина между трусостью и безрассудной отвагой имеет пять видов (1116а17 сл.): гражданское мужество, мужество опытных, яростных, самонадеянных и мужество не знающих страха. О внешней схожести ярости и мужества см. EE 1229a24 сл. Мужество является одной из трех добродетелей (наряду с кротостью и благоразумием), которая культивируется через законы (EN 1129b19–25). Мужество и кротость стоят в одном месте, потому что гнев и страх являются двумя близкородственными страстями (EN 1105b21 сл.; Pol. 1340a19 сл.). В EN под мужеством понимается преодоление не только страха, но и страдания (τὰ λυπηρά) (1117a32), в то время как в VV – только страха.
50а7–9 Благоразумие (σωφροσύνη). По Платону, благоразумие есть некоторое созвучие и гармония (συµφωνία ἡ ἁρµονία) ( Resp . 430e3), поэтому оно является добродетелью души в целом. Аристотель же критикует истолкование благоразумия через созвучие ( Top . 123a33–37) и поэтому относит эту добродетель не к душе в целом, а лишь к вожделеющей части ( Top . 136b13– 14). Также поступает и автор VV .
50а9–11 Воздержанность (ἐγκράτεια). Главным качеством воздержанного считается способность придерживаться расчета (τῷ λογισµῷ). Воздержанность не входит ни в один список добродетелей Аристотеля, поскольку ее статус до конца не ясен. В EN сказано, что воздержанность может быть дурной, а невоздержанность – добропорядочной (1146a). При этом невоздержанность не может быть пороком, потому что порочность сознательна, а невоздержанность действует вопреки сознательному выбору (παρὰ προαίρεσιν) ( EN 1151a5–8). В то же время в EE приводится следующее рассуждение: воздержанный поступает праведно (δικαιοπραγήσει), значит, воздержанность является добродетелью, ведь добродетель делает людей праведными (δικαιοτέρους ποιεῖ) ( EE 1223b10–11).
50а12 Справедливость (δικαιοσύνη). Добродетель, благодаря которой человек считается способным поступать справедливо по сознательному выбору (κατὰ προαίρεσιν), распределять блага пропорционально (κατ’ ἀναλογίαν) ( EN 1134a1–6). Отметим совпадения в текстах VV и Def .:
δικαιοσύνη δέ ἐστιν ἀρετὴ ψυχῆς διανεµητικὴ τοῦ κατ᾽ ἀξίαν ( VV 50a12).
δικαιοσύνη ἕξις διανεµητικὴ τοῦ κατ᾽ ἀξίαν ἑκάστῳ ( Def . 411e2).
50а13 Щедрость (ἐλευθεριότης). В зависимости от того, как понимать приставку εὐ, прилагательное εὐδάπανος может переводиться и как «много тратящий, расточительный, щедрый» (этот смысл отразила в своем переводе Т. А. Миллер – « не скупится делать расходы»), и как «правильно, хорошо тратящий» (в переводе Рэкхэм – spending rightly ), и как «охотно, с удовольствием расходующий» (в переводе Шмидта – gern Aufwand treibt). Так или иначе, но все эти варианты правильны и находят свои истоки в этических сочинениях Аристотеля. По Аристотелю, щедрому «свойственно даже преступать меру в даянии» ( EN 1220b5), он дает правильно (ὀρθῶς) ( EN 1220a25), и это доставляет ему удовольствие (ἡδέως) ( EN 1220a26).
50а14–15 Величавость (µεγαλοψυχία). Русскоязычный аналог подобрать трудно. Возможные переводы – благородство, возвышенный образ мыслей. Калька «великодушие» не отражает смысла, который в него вкладывали в античное время. По Аристотелю, это добродетель, проявляющая себя в от- ношении к чести и бесчестью (τιµὴ καὶ ἀτιµία) (так как подразумевается глубокое общественное уважение, основанное на высоком достоинстве человека, то, возможно, вернее было бы говорить о «почтении» и «непочтении»). Величавый считает себя достойным великого, и он действительно достоин этого (EN 1123a34 сл.), а среди великих вещей самая величайшая – честь (почтение). Величавость – это украшение добродетели, и она невозможна без нравственного совершенства (καλοκἀγαθία). Ср. Rhet. I 9, 1366b17.
50а16–29 Пороки определяются практически в тех же терминах, что и добродетели, только с отрицательным значением.
50а16–17 Безрассудство (ἀφροσύνη). Автор VV противопоставляет безрассудство и рассудительность, хотя Аристотель на место безрассудства поставил бы изворотливость (πανουργία) ( EN 1144a25–30, EE 1221a12). Платон в одном месте указывает, что безрассудству противоположно благоразумие (σωφροσύνη) ( Prot . 332a–e), а в другом – рассудительность (φρόνησις) ( Men . 88d1). В EE Аристотель отмечает, что «не подчинять свою жизнь цели есть признак большого безрассудства» (1214b9–11).
50a17–18 Гневливость (ὀργιλότης). Ср .: «Возможен избыток, недостаток и обладание серединой в связи с гневом (ὀργή)… из носителей крайностей тот, у кого избыток, пусть будет гневливым (ὀργίλος), и его порок – гневливостью (ὀργιλότης)» ( EN 1108a4–8). Выражение εὐκίνητοι γίνονται πρὸς ὀργήν не встречается в этических сочинениях Аристотеля, но в Rhet . 1379a30 мы встречаем εὐκίνητοι πρὸς ὀργήν.
50a18–20 Трусость (δειλία). Согласно EN , трусость отстоит от мужества больше, чем безрассудная отвага (θρασύτης), поэтому она менее похожа на него, нежели последняя (1109a2). Отметим, что определение трусости не в полной мере является зеркальным отражением определения мужества (50а6–7). В случае с мужеством речь идет только о страхе смерти, а в случае с трусостью говорится о различных страхах, среди которых страх смерти выступает лишь частным случаем.
50а20–21 Распущенность (ἀκολασία). Первый случай серьезного разночтения между Беккером и Зуземилем. Беккер: ахоХаоча 8’ Ёотч хах^а той Ёт6и^пт1кои, хаб’ ^v aipouvTai та; фаиХа; ^8оvd;. Зуземиль: ахоХаоча 8Ё Eoti хах[а той Ётби^ппкои, хаб’ ^v opEXTixcl Y^vоvтаl twv nEpl апоХайоЕг; файХwv ἡδονῶν. Выбран второй вариант.
50а22–25 Невоздержанность (ἀκράτεια). Также имеются серьезные разночтения между Беккером и Зуземилем. В издании первого после хаб ’ ^v стоит парастироист1 т^ аХоу[а t^v Ёпlбup^аv шбоuстаv Enl Taq tmv фаuХшv ^8оvшv апоХаиоЕк;. В издании второго - а^pоuvтаl Taq фаиХа^ ^8оvdq хwХйоvтоq той λογισµοῦ. Выбран вариант Зуземиля.
50a25–26 Несправедливость (ἀδικία). В определении отражен только один из трех подвидов этого порока – своекорыстие (πλεονεξία).
50a26–27 Скупость (ἀνελευθερία). Как и в случае с несправедливостью, определение скупости не покрывает всех трех ее подвидов, но отражает лишь один – позорный способ наживы (αἰσχροκέρδεια).
50a27–29 Приниженность (µικροψυχία). Русскоязычный аналог подобрать трудно. Подавляющее большинство довольствуется переводом-калькой (little-mindedness, smallmindedness, Kleiner Geist). Мы вслед за Брагинской предпочли переводить его как «приниженность», поскольку понятие «малодушие» отсылает нас к трусости, которое не имеет отношения к данному понятию. По Аристотелю, обладатель этого порока «считает себя достойным меньшего, [чем он достоин]; велики ли его достоинства или незначительны, он все равно считает себя еще менее достойным, и тот, кто достоин великого, [а считает себя достойным малого]» ( EN 1123b10–13).
50а30–51b25 Большой кусок текста посвящен описанию характерных качеств добродетелей и пороков, а также сопутствующим (παρέπεται / ἀκολουθει / παρεπόµενα) им качествам. Характерные качества описываются с помощью Genetivus characteristicus .
50a30–39 «εὖ βουλεύσασθαι» и «<εὖ> κρῖναι τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ» как отличительные черты рассудительности отсылают к EN VI 1140a25–27: «Рассудительным кажется тот, кто способен принимать верные решения в связи с благом и пользой для него самого (καλῶς βουλεύσασθαι περὶ τὰ αὑτῷ ἀγαθὰ καὶ συµφέροντα)».
50a31–32 αἱρετὰ καὶ φευκτά… Две категории (избираемое и избегаемое), игравшие важную роль в практической философии Аристотеля ( EN 1175b24– 25), особенно первая, к которой восходит понятие сознательного выбора (προαίρεσις). Обе будут активно использоваться стоиками.
50a41 Кротости свойственно «не скоро [поддаваться] порыву к отмщению (τὸ µὴ ταχέως ὁρµᾶν ἐπὶ τὰς τιµωρίας)». Ср .: «ὁ θυµὸς… ὁρµᾷ πρὸς τὴν τιµωρίαν» ( EN VII 1149a31).
50b19–21 Градация почитаний (боги, демоны, отечество, родители, усопшие) отсылает к пифагорейским «Золотым стихам». Ср.: «Прежде всего почитай бессмертных богов, соблюдая / Их старшинство согласно закону, и верным будь клятве, / Славных героев, подземных демонов чти по закону, / Мать и отца уважай, проявляй внимание к ближним» [Петер 2000, 9]. Ср.: «Вслед за всеми этими богами разумный человек станет почитать священными обрядами даймонов, а после них и героев. Затем следует священное почитание, согласно с законом, частных святилищ родовых богов [29] и по- читание тех родителей, что еще живы… Опять-таки дóлжно проявлять ежегодное попечение о покойных, служащее их прославлению» (Pl. Leg. 717 a–e).
50b21–23 ἐν οἷς ἐστι καὶ ἡ εὐσέβεια, ἤτοι µέρος οὖσα τῆς δικαιοσύνης ἢ παρακολουθοῦσα. Неуверенность автора относительно того, чем является благочестие: то ли справедливости, то ли сопутствующим, – может свидетельствовать о его знакомстве с сочинениями Платона. Так, в «Евтифроне» благочестие провозглашается частью справедливости (11e–13c), а в «Протагоре» две эти добродетели предлагается мыслить как одно и то же или как «весьма подобные друг другу» (331b).
50b30–31 …θρεπτικὸς τῶν ζῴων... Возможны два перевода: «он кормит животных» (более буквальный, его выбрала Т. А. Миллер) и «он содержит животных». Мы выбрали второй вариант, поскольку прил. θρεπτικὸς, хотя и имеет первоочередное значение питания, также восходит к гл . τρέφω, одно из значений которого – «воспитывать», «взращивать», «содержать». Второй вариант перевода предпочли оба англоязычных переводчика («he is fond of keeping animals» – H. Rackham, «inclined to keep all animals» – J. Solomon).
51a1–2 παρακολουθεῖ δὲ τῇ ἀφροσύνῃ… ἀκρασία… В качестве одного из сопутствующих свойств порока безрассудства выступает другой порок – невоздержанность.
51a3–4 ὀργιλότητος δέ ἐστιν εἴδη τρία, ἀκροχολία, πικρία, βαρυθυµία. Ср.: οἱ πικροί в EN 1126a19–20, EE 1221b13–14; οἱ ἀκρόχολοι в EN 1126a18–19. В сочинениях Аристотеля βαρυθυµία не встречается. Возможна связь с SVF III 394, 414, 421.
51а15 εὐλάβεια. Осмотрительность – качество, сопутствующее как пороку (трусости), так и добродетели (благоразумию). Одна из трех «благих страстей» стоиков (SVF 431–442).
51a35 Εὔηνος – древнегреческий поэт Эвен Паросский, современник Сократа. Неоднократно упоминается Платоном ( Phaed . 60d3, 61c6; Apol . 20b8) и Аристотелем ( EN 1152a31, EE 1223a31).
51a34–36 Понятие ὕβρις имеет несколько значений. С одной стороны, под ὕβρις понимается спесивое, излишне самоуверенное поведение (дерзость человеческая, бросающая вызов небесам, за которую боги карают героя – переводы гордыня , спесь , дерзость ), с другой стороны, это порок, связанный со страстью приобретения богатства (у Гесиода). В юриспруденции – оскорбление словом и делом (телесным наказанием) (см. словарь Любкера).
51b2–4 Перечисляются качества, сопутствующие несправедливости. Между беккеровским и зуземилевским текстом имеется разночтение: вместо «φιλανθρωπία προσποίητος» Зуземиль ставит «ἀφιλανθρωπία, προσποίητος». Поэтому возможно два варианта перевода: «притворное человеколюбие» (этот вариант выбирает Т. А. Миллер, Э. Шмидт и Х. Рекхэм) или «нелюди- мость, притворство» (к этому варианту прочтения склоняется Дж. Соломон). Согласно Э. Шмидту, первый вариант чтения предпочтительней, поскольку он представлен в более ранних кодексах (Mosqu. и Lips.).
Κακοήθεια – злонравие. По Аристотелю, злонравие является одним из качеств пожилых людей. «Они злонравны, потому что злонравие есть понимание всего в дурную сторону» ( Rhet . 1389b20–21). Πανουργία – коварство, изворотливость, беспринципность ( англ . unscrupulousness). Изворотливость – одна из ипостасей изобретательности. «Существует способность под названием “изобретательность” (δεινότητα); свойство ее состоит в способности делать то, что направлено к предложенной цели, и достигать ее. Поэтому, если цель прекрасна, такая способность похвальна, а если дурна, то это изворотливость (πανουργία), недаром даже рассудительных мы называем изобретательными и изворотливыми» ( ΕΝ 1144a23–28).
Согласно EE , πανουργία и εὐήθεια – два порочных качества-избытка, между ними находится φρόνησις (1221a12).
Во второй книге Adv. Math . сказано, что риторы διὰ πανουργίαν морочат судьям голову (Sext. Adv. Math . II 39, 2). Ср . Adv. Math . II 76, 7.
51b4–10 О видах скупости. Вообще, по Аристотелю, скупость имеет две стороны – недостаточность в даянии и излишество в приобретении ( EN 1121b18). К последнему виду скупости относится αἰσχροκέρδεια – позорный способ наживы. Согласно Аристотелю, такие люди терпят порицание ради малой наживы ( EN 1122а2) и добиваются выгоды даже от беззащитных лиц ( Rhet . 1383b22–25).
Φειδωλοί и κίµβικες – это те, кого «недостаточно дают, но их не тянет и к чужому [добру], и они не стремятся им завладеть» ( EN 1121b22). Переводить φειδωλία как «жадность» не совсем верно, так как слово жадность в русском языке помимо прочего имеет значение ненасытного желания приобретать и обогащаться, что не соответствует вышеприведенной цитате.
51b26–30 В заключительном абзаце автор VV , отмечая, что добродетели свойственно приводить душу в превосходное состояние, использует термин «διάθεσις», в то время как Аристотель чаще использовал термин «ἕξις».
Сравнение совершенного состояния души и хорошо устроенного государства отсылает к платоновскому «Государству» (Rackham 1935, 485).
Список литературы Трактат "О добродетелях и пороках" (перевод и комментарий)
- Bekke, I. ed. (1831) “De virtutibus et vitiis”, Aristotelis opera. Berlin, 2, 1249-1251 (repr. De Gruyter, 1960).
- Cacouros, M. (2003) “Le traité pseudo-aristotélicien De virtutibus et vitiis”, Dictionnaire des philosophes antiques, Vol. Supplément, Paris, 506-546.
- Glibert-Thirry, A. ed. (1977) Pseudo-Andronicus de Rhodes. Περὶ παθῶν: édition critique du texte grec et de la traduction latine médiévale. Leiden.
- Gohlke, P. (1944) Die Entstehung der aristotelischen Ethik, Politik, Rhetorik. Vienna.
- Hense, O., ed. (1894-1912) Ioannis Stobaei Anthologii libri duo posteriores. Berlin (repr. 1973).
- Kraye, J. (1981) “Francesco Filelfo on Emotions, Virtues and Vices: A Re-examination of his Sources,” Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance 43, 129-140.
- Rackham, H., ed. (1935) Aristotle. The Athenian Constitution. The Eudemian Ethics. On Virtues and Vices. London, Cambridge, MA.
- Ross, W.D. ed. (1959) Aristotelis ars rhetorica. Oxford.
- Schuchhardt, C. ed (1883) Andronici Rhodii qui fertur Libellus Περὶ παθῶν pars altera De virtutibus et vitiis. Darmstadt.
- Schmidt, E. (1986) Aristoteles. Werke. Band 18. Opuscula, Teil 1. Über die Tugend. Übersetzt und erläutert von E. A. Schmidt. Berlin.
- Simpson, P. (2013) “Aristotle's Ethica Eudemia 1220b10-11 ἐν τοῖς ἀπηλλαγμένοις and De virtutibus et vitiis,” The Classical Quarterly 63(2), 651-659.
- Susemihl, F. ed. (1935) Aristotle. Magna moralia. Vol. 18 (ed. G. C. Armstrong). Cambridge, MA, 446-684. (repr. 1969).
- Zeller, E. (1923) Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. T. III. Abt. 1. Leipzig.
- Zürcher, J. (1952) Aristoteles' Werk und Geist. Paderborn.
- Wartelle, A. (1963) Inventaire des manuscrits grecs d'Aristote et de ses commentateurs, Paris (réédition 1980).
- Афонасин, Е. В. (2008) «Золотые стихи», Солопова, М. А. и др. Античная философия. Энциклопедический словарь. Москва, 390-391.
- Брагинская, Н. В., пер. (1984) Аристотель. Никомахова этика, Сочинения. Том 4. Москва, 53-293.
- Сонни, А. И. (1894) «De libelli περὶ ἀρετῶν καὶ κακιῶν codice Mosquensi», Филологическое обозрение 7, 97-102.
- Солопова, М. А. сост., пер. (2005) Аристотель. Евдемова этика. Москва.
- Миллер, Т. А. пер. (1987) О добродетелях, Краткая история этики. Москва, 527-531.
- Платонова Н., пер. (1978) Аристотель. Риторика, Античные риторики. Москва, 15-233.
- Петер, И. Ю., пер. (2000) Пифагорейские золотые стихи с комментарием Гиерокла. Москва.