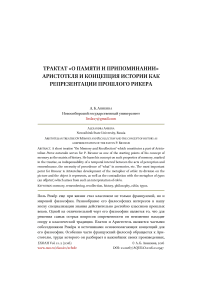Трактат "О памяти и припоминании" Аристотеля и концепция истории как репрезентации прошлого Рикёра
Автор: Аникина Александра Борисовна
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Статья в выпуске: 2 т.10, 2016 года.
Бесплатный доступ
Трактат Аристотеля «О памяти и припоминании» является для Рикёра одной из отправных точек его концепции памяти как матрицы истории. Он опирается на такие свойства памяти, отмеченные в трактате, как неустранимость временного интервала между восприятием и воспоминанием, необходимость предшествования «о чем» воспоминания. Самым важным для Рикёра является аристотелевское развитие метафоры eikôn: разделение его на рисунок как объект и на то, что он изображает, а также то противоречие, в которое eikôn в такой трактовке вступает с метафорой typos (отпечаток).
Память, припоминание, воспоминание, история, философия
Короткий адрес: https://sciup.org/147103461
IDR: 147103461
Текст научной статьи Трактат "О памяти и припоминании" Аристотеля и концепция истории как репрезентации прошлого Рикёра
Поль Рикёр еще при жизни стал классиком не только французской, но и мировой философии. Разнообразие его философских интересов в нашу эпоху специализации знания действительно достойно классиков прошлых веков. Одной из отличительной черт его философии является то, что для решения самых острых вопросов современности он неизменно находит опору в классической традиции. Платон и Аристотель являются частыми собеседниками Рикёра и источниками основополагающих концепций для его философии. Особенно часто французский философ обращается к Аристотелю, труды которого он разбирает в важнейших своих произведениях, ΣΧΟΛΗ Vol. 10. 2 (2016) © А. Б. Аникина, 2016
DOI: 10.21267/AQUILO.2016.10.2947
таких как «Время и рассказ», «Живая метафора», «Я-сам как другой» и других. Аристотелю Рикёр обязан рядом основополагающих для своей философии концепций, таких как мимесис, построение интриги, благая жизнь, противопоставление памяти и припоминания, образ-репрезентация.
Анализируя Аристотеля Рикёр не оставляет без внимания даже тончайших нюансов мыслей и образов великого грека. Характерным примером является разбор Рикёром небольшого произведения «О памяти и припоминании», которое стало важнейшей опорой его концепции исторического познания. Анализ этого трактата Рикёр предпринимает в поздней работе «Память, история, забвение», в которой он и излагает свои взгляды на роль истории в современном обществе и связь истории и памяти. Трактат Аристотеля становится одной из отправных точек этой работы.
Существенно то, что Рикёр полагает память матрицей истории. Это предполагает разнообразные отношения: память как набор исходных данных, как образец, определяющий форму или последовательность действий. Но во французском языке первым словарным значением слова «matrice», произошедшего от латинского «matriх», является «матка». Таким образом, перед нами предстает удивительный образ происхождения истории из лона памяти, подразумевающий на заднем плане также и метафору генетической преемственности. Этот образ, конечно, присутствовал еще в Античности, где Клио вместе с другими музами считалась дочерью Мнемозины. Важные черты памяти именно как матрицы истории Рикёр заимствует из аристотелевского анализа, произведенного им в трактате «О памяти и припоминании».
Первый значимый для Рикёра момент состоит в утверждении Аристотеля, что «память – вместе со временем» (449b28, здесь и далее пер. С. В. Месяц). Это заявление Рикёр называет «путеводной звездой» своего исследования памяти как матрицы истории. Но во времени, подчеркивает Аристотель, память сопряжена в первую очередь с прошлым. Из этого очевидного факта Рикёр выводит некоторые свойства памяти уже менее очевидные, или иногда упускаемые из виду. Во-первых, необходимость для памяти предшествования «о чем» воспоминания, то есть восприятия или постижения чего-то. Во-вторых, так утверждается необходимость наличия временного интервала, так как восприятие становится памятью как бы под воздействием времени: «Поэтому память не есть ни ощущение, ни постижение, но – приобретенное свойство или состояние чего-то из них по прошествии времени» (449b23–25). В-третьих, необходимым условием осознания этого временного интервала, то есть предшествования во времени, является различение моментов «до» и «после».
Перечисленные характеристики служат Рикёру основанием его уверенности в возможности достоверного познания прошлого. Ведь если они кажутся естественными и неотделимыми от памяти, не следует воспринимать их как препятствие в случае исторического познания, в особенности наличие временного интервала. В то время как для большинства противников достоверного исторического знания, основным аргументом является непреодолимость этого временного интервала между моментом познания (настоящим) и событиями прошлого, и что, в таком случае, история может говорить что угодно.1
В ответ на это Рикёр обращает внимание, что в человеческом сознании эта проблема как-то решается: ведь память – это о том, что прошло, после чего прошло время, а предшествующее событие неустранимо, иначе нет смысла говорить о памяти. Знак предшествования является определяющим для памяти, но также и для истории. Рикёр в своей концепции выделяет негативный и позитивный смысл слова «было»: было как «прошло и исчезло» и было как «имело место». Таким образом перед нами предстают две ипостаси прошлого: прошлое как «бывшее» и прошлое как «минувшее». По твердому убеждению Рикера позитивный смысл преобладает над негативным, в том смысле, что «бывшесть» некоторого события есть неустранимый факт, чему порукой выступает память.
Следующий важный для Рикёра момент в трактате Аристотеля – это его ответ на вопрос о том, как восприятие сохраняется и вспоминается в отсутствие воспринимаемой вещи? Для Рикёра ответ Аристотеля на этот вопрос ценен тем, что к платоновскому образу восприятия как отпечатка на воске, он добавляет собственную проблематику eikôn (см. Sorabji 1974, 5 сл.).2 Рикёра интересуют два введенных Аристотелем аспекта eikôn (образа, изображения).
Во-первых, Аристотель обращает внимание на то, что вспоминать само воздействие и то, что его вызвало, – это не одно и то же: «Если воздействие похоже на отпечаток или рисунок в нас, то почему восприятие этого отпечатка будет памятью о чем-то другом, а не о самом этом отпечатке?» (450b15–18).3 Для Рикёра это важно, потому что это первый шаг к тому, чтобы ввести «категорию инаковости в самое сердце отношений между eikôn, воспринимаемым как зафиксированный образ, и первоначальным чувством» (Ricoeur 2000, 24). Для Платона отношение между первичным впечатлением и сохраняемым в душе образом – это отношение копии, ведь естественно, что изображение на перстне будет идентично изображению, оставленному им на воске. Кроме Аристотеля долгое время никто не сомневался в одинаковости этих двух образов. Небезразличный к понятию сущности, он обратил внимание, что, несмотря на несомое изображение, это все-таки два разных предмета, бытие их различно.
Во-вторых, Аристотель развивает само понятие eikôn, то есть метафору рисунка. Собственно, если в нас хранится отпечаток или рисунок вещи, и это не то же самое, что сама вещь, то почему мы помним именно о ней, хотя она отсутствует, а отпечаток присутствует? Ведь тогда можно «помнить» и такую вещь, которая в принципе отсутствует. С одной стороны, это могут быть собственные мысли и рассуждения, а с другой – ложные образы. Тогда Аристотель вводит новое различение, которое будет очень занимать Рикёра: понятие рисунка он разделяет на собственно рисунок как объект и на то, что он изображает: «находящееся в нас представление нужно полагать и чем-то самим по себе существующим и относящимся к чему-то иному » (450b24–26, пер. С. В. Месяц, с небольшими изменениями).
Это первоначальное разделение eikôn на изображение само по себе и иное , то, на что оно указывает, будет постоянно фигурировать в концепции
Рикёра в качестве основы репрезентации: «Действительно, в понятие рисунка следует включить отсылку к иному; иному нежели запечатление как таковое. Отсутствие как иное присутствия!» (Там же, 21). Нынешнее отсутствие должно указывать на присутствие в прошлом, но не любое отсутствие, а лишь помеченное следом. Сам след становится репрезентацией только в сочетании с отсутствием, указывающим на предшествовавшее присутствие.
Для Рикёра важно, что в представлении Аристотеля память сама по себе становится когнитивной способностью.4 Ведь согласно трактату нет больше никакого контролирующего органа, который сверял бы образы в памяти и явления внешнего мира, указывая на их соответствие или несоответствие. Аристотель отмечает, что иногда «рассматривая представление как нечто самостоятельное, мы изменяемся и начинаем рассматривать его как относящееся к другому» (451а7–8). Переключение с изображения как такового на изображение чего-то иного – это дело самой памяти, но это иное с необходимостью должно предшествовать памяти. «Вопреки ловушкам, которые воображаемое устраивает памяти, можно утверждать, что специфическое требование истины внутренне присуще нацеленности на прошлую “вещь”, на что-то прежде виденное, слышанное, испытанное, воспринятое. Это требование истины определяет память как когнитивную способность» (Ricoeur 2000, 86).
В то же время, Рикёр обращает внимание на противоречие, которое возникает между eikôn и typos, если внимательно проанализировать эти понятия. Это противоречие осталось незамеченным ни Аристотелем, ни его исследователями. Метафора typos ( отпечатка) отсылает к внешнему воздействию, к тому что оставило отпечаток, и требует идентичного материального следа. Метафора eikôn (образа) в свою очередь предстает у Аристотеля как рисунок, что подразумевает, если вдуматься, не пассивное претерпевание запечатления, но активное участие в создании образа предмета. Аристотель не придает значения этому различию, полагая по умолчанию подобие между образом-отпечатком и образом-рисунком: «воздействие похоже на отпечаток или рисунок в нас» (450b16).
Однако Рикёр внимателен к подобным деталям и анализируя эти образы приходит к убеждению, что «с феноменологической точки зрения это понятия разного порядка: eikôn содержит в себе иное первоначального впечатления, в то время как typos вводит в игру внешнюю причинность воздействия (движение, kinesis), производящего отпечаток на воске» (Ricoeur 2000, 81). В интерпретации Рикёра метафора typos (как и eikôn Аристотеля) распадается на два образа: саму печать, несущую изображение, и внешнюю (для души) причинность воздействия, оставляющего оттиск.
Уравнивание eikôn и typos, внешне близких, но при анализе весьма различных, ставит исследования памяти в тупик: «соединение внешнего воздействия и сущностного подобия» Рикёр считает «крестом, который несет вся проблематика памяти»5 (Там же, 21). Если же признать различение между eikôn и typos, тогда можно будет задаться вопросом, а каковы на самом деле «отношения между внешней причиной – «движением» – производящим отпечаток, и первоначальным чувством (l'affection initiale), данным в воспоминании и через него?» (Там же, 24). Это позволит вывести изучение памяти из тупика, в котором Аристотель его оставил, по мнению Рикёра.
Тем не менее, для Рикёра вклад Аристотеля в дискуссию намного важнее, чем этот тупик, которого можно было бы избежать, задайся кто-нибудь раньше вопросом о различии между eikôn и typos. Само различение между первоначальным впечатлением и хранимым впоследствии образом памяти, но уже с опорой на Бергсона и Гуссерля, Рикёр положит в основание своей концепции памяти и истории как репрезентации прошлого. Некое первоначальное, непроизвольное восприятие (typos) под действием работы памяти и воображения превращается в образ-репрезентацию воспринятого (eikôn). В нем происходит отделение значимого от незначимого, выстраиваются логические связи, неуловимые при первоначальном восприятии. Но чтобы оставаться репрезентацией прошлого, образы памяти (eikôn) с необходимостью должны указывать на иное. История, по мнению Рикёра, перенимает от памяти этот репрезентативный импульс и ее претензию на верность, что позволяет ей, как и памяти, претендовать на достоверную репрезентацию прошлого.
Список литературы Трактат "О памяти и припоминании" Аристотеля и концепция истории как репрезентации прошлого Рикёра
- Bloch, D. (2007) Aristotle on Memory and Recollection. Leiden.
- Ricoeur, P. (2000) La mémoire, l'histoire, l'oubli. Paris: Seuil. Рус. перевод:
- Рикёр П. Память, история, забвение, под ред. И. С. Вдовиной. Москва, 2004.
- Sorabji, R. (1972) Aristotle on Memory. London.
- Алымова, Е. В., пер. (2004) Аристотель. Протрептик. О чувственном восприятии. О памяти. Санкт-Петербург.
- Афонасин, Е. В., пер. (2016) «Аристотель. О движении животных», ΣΧΟΛΗ (Schole) 10.2, 732-753 (этот выпуск журнала).
- Месяц, С. В., пер. (2005) «Аристотель. О памяти и припоминании», Гайденко, П. П., Петров, В. В., ред. Космос и душа. Москва. Вып. 1., 391-419.