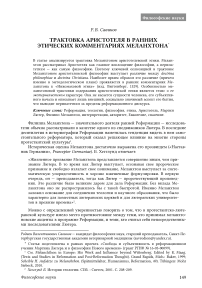Трактовка Аристотеля в ранних этических комментариях Меланхтона
Автор: Савинов Родион Валентинович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Статья в выпуске: 6 (77), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется трактовка Меланхтоном аристотелевской этики. Меланхтон рассматривал Аристотеля как главное воплощение философии, а перипатетизм - как самую философию. Поэтому ключевой оппозицией в трактовке Меланхтоном аристотелевской философии выступает различие между doctrina philosophiae и doctrina Christiana. Наиболее ярким образом это различие (причем именно в методологическом плане) проявляется в ранних комментариях Меланхтона к «Никомаховой этике» (изд. Виттенберг, 1529). Особенностью меланхтоновой трактовки содержания аристотелевской этики является тезис о ее экстерналистском характере. Она не касается сущности человека, его субъективного начала и описывает лишь внешний, социально значимый аспект его бытия, что выводит перипатетизм за пределы реформационного дискурса.
Реформация, теология, философия, этика, аристотель, мартин лютер, филипп меланхтон, интерпретация, авторитет, евангелие, спасение
Короткий адрес: https://sciup.org/140223483
IDR: 140223483
Текст научной статьи Трактовка Аристотеля в ранних этических комментариях Меланхтона
* Статья подготовлена в рамках проекта «Свобода и субъективность в реформационном учении Мартина Лютера и в философии Нового времени» (грант РГНФ № 16-03-00099).
С одной стороны, под влиянием Меланхтона и на основе его трудов формируется мощное направление, получившее название «протестантской схоластики», выходящее к Г. В. Лейбницу, Хр. Вольфу и, в итоге, — к И. Канту. С другой, именно попытками преодолеть влияние Меланхтона окрашена деятельность, например, Иоганна Арндта, чья книга «Об истинном христианстве» составляет вызывающую параллель с системами лютеранских догматистов Мартина Хемница и Пауля Герхардта. Примечательно, что и теософия Якоба Бёме питается теми же самыми контрмеланхтониан-скими тенденциями, с их мистицизмом, сложным индивидуальным стилем переживаний и языковыми опытами3. В этой перспективе тем более интересен вопрос о том, как формировалось собственное мышление Меланхтона, как он обретал самостоятельность в ключевых вопросах веры и разума.
Обычно в деятельности Меланхтона исследователи выделяют «лютеровский» и «самостоятельный» периоды. Интерес для нас будет представлять именно первый период, когда Меланхтон следовал за Лютером. В это время его занимают принципиальные вопросы религиозного порядка, которые он рассматривает в духе тех решений, что предлагал Лютер. Поэтому наиболее важно понять отношение Мелан-хтона к философии и философской этике, отрицание которой служило фундаментом для лютеровской критики схоластики и католического богословия вообще. Целью нашего исследования является рассмотрение следующих вопросов: 1) в чем специфика отношения к Аристотелю Лютера и раннего Меланхтона; 2) как Аристотеля оценивал сам Меланхтон; 3) как он понимал проблемы этики и относился к перипатетической этике и какой подход к Аристотелю разработал.
Филипп Меланхтон является одним из значительных комментаторов Аристотеля в период раннего Нового времени, оставивших довольно большой корпус толкований на различные части наследия Аристотеля.
Будучи одним из представителей «модифицированной схоластики» (схоластики, прошедшей через кризис аристотелизма и гуманистическую критику), Меланхтон оказался в то же время и критиком аристотелизма, выступающим с позиций радикальной Реформации. Поскольку наука для времен Меланхтона — это философия и логика Аристотеля, перед ним, как и перед Лютером, возникла проблема отношения к этой системе знания. Ответ Меланхтона на этот вопрос был иным, чем ответ Лютера, и должно было пройти достаточно много времени, чтобы настроение Мелан-хтона оформилось в ясную и обоснованную позицию.
Отношение Лютера к Аристотелю известно. Он полностью отвергал авторитет великого древнегреческого философа и заявлял, что Philosophus — враг Христа. Поэтому применение аристотелизма в вопросах морали, теологии и общемировоззренческих вопросов не может быть оправдано. Известны многие высказывания Лютера в этом отношении, приведем, например, относящееся к 1521 г.:
«Усилилась и все сильнее становится философия, и Аристотель уже сравнялся со Христом, требуя такие же авторитет и веру <…> И вот, Аристотель, мертвый и проклятый, стал теперь большим учителем в университете, чем Христос. Авторитетом и учением Фомы он воздвигнут на трон, обновляя изучение свободных искусств, уча моральным добродетелям и натуральной философии, трехглавый, как Цербер, трехтелый, как Герион»4.
Вместе с тем, Лютер признавал (и не мог не признавать, раз она концентрировала в себе самое знание) некоторую пользу мирской философии в отдельных практических областях, но не более. Около того же времени, к которому относится процитированное выше бескомпромиссное суждение, Лютер пишет диспутационные тезисы на тему «Полезны ли или бесполезны книги философов в теологии» (An libri philosophorum sint utiles aut inutiles ad theologiam), где утверждает следующее:
«2. Среди всех изобретенных людьми наук для развития теологии более всего полезна грамматика. 3. Но не следует изучать Аристотеля и его философию, хотя бы ее понятия и употреблялись святыми учителями <...> 8. И, используя понятия логики и философии в богословии, необходимо приходишь к сочинению ужаснейших ошибок. 9. Философия, толкующая по Аристотелю о бесконечном движении или началах вещей, бесполезна для теологии. 10. Она более подходит для упражнения и развития таланта в обычной человеческой жизни»5.
Как известно, Лютер читал курс библейских комментариев. Есть глухие указания на какие-то фрагменты его комментария к Сентенциям . Главным же образом он был библейским богословом, который обязан преподавать и проповедовать на основе книг Священного Писания. Таким образом, проблематика лютеровских вопросов возникала непосредственно из практики комментирования библейских текстов, и попытка в них разобраться приводила к противопоставлению философии и богословия. Он признавал философию и секулярное знание вообще лишь в той степени, в которой оно не посягало на «священную доктрину».
Данная позиция могла толковаться и как отрицание философии, и как попытка найти ей место в напряженном религиозном сознании. Известно, что большое число последователей Лютера пошли по первому пути, что приводило их к новым противо-речиям6. Это в дальнейшем вызвало немалые затруднения у протестантов. Сошлемся на мнение Е. Спекторского, который замечает:
«В то время как католические теологи к XVII веку уже давно вступили на путь богословского рационализма, протестантские теологи еще не успели окончательно справиться не только с богословским суммированием, систематизацией — что вызвало немалое злорадство в католических кругах — но даже с богословской интерпретацией, толкованием Слова Божия» 7.
Меланхтон примечателен тем, что увидел в строгости лютеровской трактовки священного и мирского знания возможность к его оправданию и своеобразному во-церковлению. Он имел другую историю развития, чем Лютер: он был профессиональным филологом, по имеющимся указаниям, в 1519 г. защищался на звание бакалавра теологии, но, как отмечают, тезисы его диспута были составлены Лютером8.
Связь с гуманизмом, критиковавшим схоластический перипатетизм, и работа над проблемами, которые волновали Лютера, не могла не наложить отпечаток на суждения Меланхтона. Он интерпретирует позицию Лютера, значительно расширяя ее горизонт. В 1521 г. пишет Дидиму Фавентину:
«Не отрицает Лютер той части философии, которая говорит о знании камней, растений и животных <…> Признает он и те принципы, которые описываются медиками.
Но Лютер отвергает, да будет тебе известно, ту часть философии, которая учит о началах вещей, обсуждает пустопорожние причины дождей и наводнений — словом, все то, что Аристотель называет акроаматической физикой и метафизикой, отвергает и то, что говорится в философии о нравственности» (CR, 1, 301)9.
Там же Меланхтон говорит (ibid. 303), что со времен установления христианства общие мировоззренческие и философские вопросы стали пониматься гораздо лучше — благодаря Писанию, и потому суждения философов о них уже не требуются, и потому бессильны рассуждения томистов, скотистов, оккамистов и прочих схоластов10. В своих тезисах он обращается прежде всего к этическим вопросам и утверждает неосновательность этического теоретизирования в вопросах морали.
В дальнейшем Меланхтон, в силу своих служебных обязанностей, обращает все большее внимание на Аристотеля, а именно на его этические труды (ранее он издал обработку логики, впрочем, его компендий весьма стандартен в ряду учебников XVI в.). Интересно, что он сознательно избегает трактовки аристотелевских физики и метафизики. Современные исследователи указывают, что Меланхтон мог сводить философские, метафизические вопросы к грамматическим, и этого было достаточно11. Однако отношение к этическим вопросам у Меланхтона изменилось.
Наиболее ярким образом эти изменения (причем именно в методологическом плане) проявляются в ранних комментариях Меланхтона к «Никомаховой этике» (изд. Виттенберг, 1529).
Здесь Меланхтон уже не противопоставляет жестко дохристианскую и христианскую мысль. Он рассматривает Аристотеля в качестве автора, репрезентирующего определенный — дохристианский — этап развития человеческой культуры, ее научного, религиозного и морального уровня. Эта позиция, связанная с гуманистическими истоками образованности Меланхтона, в значительной мере смягчала реформационную критику перипатетизма.
Одним из мотивов обращения к Аристотелю здесь также оказывается критика платонизма. Платонизм, по Меланхтону, достоин критики, потому, что, во-первых, это языческое учение, ничем не лучшее перипатетизма, а во-вторых, оно имитирует христианство12. Эта имитация, считает Меланхтон, придумана самим дьяволом, чтобы смешать философию с христианством и отклонить людей от веры13.
Особенностью подхода Меланхтона является убежденность в том, что текст Аристотеля не является сам по себе авторитетным. Отрицая древнюю схоластическую традицию, он оказывался в довольно сложном положении — необходимости обращения к Аристотелю при жестком табуировании этого хода со стороны других сторонников Реформации, включая и самого Лютера.
Вследствие этого Меланхтон отказывается в значительном числе случаев от буквального следования аристотелевскому тексту, ограничиваясь парафразами, пересказами и отсылками к его текстам. Это отражало как падение значения Аристотеля в период раннего Нового времени, так и влияние Лютера с его убежденностью в чуждости перипатетизма христианской культуре.
Однако Меланхтон — как раз в русле традиции — рассматривал Аристотеля как главное воплощение философии, а перипатетизм — как самую философию, трактующую о rebus naturalibus . Поэтому ключевой оппозицией в трактовке Мелан-хтоном аристотелевской философии выступает различие между doctrina philosophiae и doctrina Christiana.
В чем особенности трактовки Аристотеля Меланхтоном? Прежде всего, он заявляет о необходимости простоты (simplex) толкования того или иного положения Аристотеля, тем самым отказываясь от «усложненных» трактовок традиционной схоластической экзегезы, рассматривающей текст как повод для почти беспредельного расширения дискурса посредством различений смысла и связи понятий. И выстраивает толкование, избегая сложностей и облегчая его понимание, говоря порой и просто (populari genere sermonis) и не отклоняясь от обычного здравого смысла (non longissime a vulgi intellectu posita).
В этом отношении Меланхтон следует традиционному гуманистическому предписанию понимать текст так, как он дан в рамках его собственного контекста, не привнося смысловых анахронизмов.
«Философия есть не что иное, как разъяснение и пересказ различных суждений, в том числе относящихся к общественной жизни, и философия делает это наилучшим и очевиднейшим образом» (CR, 16, 281).
Любопытно, что здесь Меланхтон обыгрывает логику самого Аристотеля, который в начале «Никомаховой этики» (1094b 10-15) заявляет, что данная дисциплина является политически важной, а философское учение о морали служит благу общества. Меланхтон, следуя этому замечанию Аристотеля, предлагает ограничить притязания философии «общественно-полезными функциями».
Впрочем, этот путь закрывает для Меланхтона возможность «христианизации» Аристотеля: следующим шагом он предпринимает разделение христианского и «философского» содержания. Ключевым различием для Меланхтона выступает наличие или отсутствие определенных топосов, которые можно извлечь из Библии:
«Философия ничего не говорит ни о воле Божьей, ни об оправдании грешников, ни о страхе и верности Богу. Там есть предписания о внешней и гражданской стороне жизни, связанной с публичными законами <…> А гражданские нравы не суть центр справедливости (iustitiam)» (CR, 16, 280).
Формально это соответствует (даже буквально) взгляду, изложенному Меланхто-ном еще в его Loci theologici (1521). Философия лишь проясняет и учит (explicatio et enarratio) о внешних делах, не касаясь дел веры, потому что естественного знания недостаточно, чтобы судить о них. Эту позицию Меланхтона очень рельефно описал в своих комментариях его последователь Мартин Хемниц:
«Оно [естественное знание] ничтожно, ибо вся философия вовсе не ведает благодатного обетования о прощении грехов. Оно несовершенно, ибо язычники имеют знание только о маленькой частице Закона. Оно немощно, ибо, несмотря на то, что в человеческих умах было запечатлено знание о существовании Бога, и о том, что Он заповедует послушание, указывая на различие между достойными и позорными деяниями, все же это согласие не только слабо, но часто еще и подпорчено ужасными сомнениями»14.
Это выражается в различении христианских добродетелей и философских добродетелей . Трактовка, которую предлагает Меланхтон, обосновывая это различие, всецело зиждется на исходном лютеровском тезисе о недостаточности человеческой природы в деле спасения. Однако если, например, Флаций, критиковал философию за гносеологическую самоуверенность, то Меланхтон прибегает к другому лютеровскому тезису: о недостаточности добрых дел. Философские добродетели суть добрые дела, согласованные с разумом и выраженные в публичных законах, которые человеческая воля производит собственными силами (CR, 16, 281).
Меланхтон отмечает, что следует и здесь особенно подчеркивать те топосы христианской доктрины, которые касаются не внешних добродетелей поступков (actionem virtutes), а познания и славы Бога. Это еще раз выступает в трактовке счастья (foelicitas), которое дает Меланхтон:
«Христианское счастье состоит не в гражданских делах, а в вере и созерцании Бога
<…> Счастье же по Аристотелю — это те добрые дела (honestae actiones), которые обнаруживаются в гражданской жизни»15.
Это позволяет сделать Меланхтону два существенных вывода относительно «философских добродетелей». Они касаются: 1) «законов рынка» (legibus fori) и 2) «только лишь бессильной природы» (tanta inbeccititate naturae). Главное же то, что аристотелевская этика не дает возможности распознать грех и очиститься от него, лишь укрепляя человеческую гордость.
Различие, проводимое Меланхтоном, проявляется и в трактовке причин, побуждающих человека действовать. Он различает навык (habitus) и состояние (affectus), приписывая первому мотивацию к деятельности, а второму — к религиозности. Научаясь определенному образу действий, человек исполняет их, довольствуясь соответствием их неким внешним установлениям. Религиозность и христианские добродетели возникают из изменения самого внутреннего состояния человека, производимого Св. Духом.
«Св. Дух не освобождает наши состояния [от греховности], но влагает новые состояния <…> От этих новых состояний возникает надежда на Бога и страх Божий. И христианские добродетели суть эти состояния, вложенные Св. Духом, как и учит Павел, называя их плодом Св. Духа. А гражданские добродетели суть не состояния, а навыки, кои управляют и умеряют естественные состояния»16.
Таким образом, особенностью меланхтоновой трактовки содержания аристотелевской этики является тезис о ее экстерналистском характере. Она не касается сущности человека, его субъективного начала и описывает лишь внешний, социально значимый аспект его бытия, что выводит перипатетизм за пределы реформационного дискурса. Спасению только верой противопоставляется позиция реализации тех или иных внешних «дел» (actiones), что признается Меланхтоном источником аморальности и погибели.
Поэтому материал аристотелевской этики подходит для того, чтобы служить назидательным начальным уровнем вхождения в нравственную проблематику. Также не стоит ее переусложнять или трактовать возможно проще для понимания (fasilius intelligentur haec). Но именно поэтому текст Аристотеля лишается авторитетной ценности: подлинного наставления в христианской проблематике из него не извлечь, а для теологии — центра реформационного дискурса — он бесполезен.
Но, вероятно, под влиянием Аристотеля в дальнейших редакциях своих Loci (1535, 1543) Меланхтон отходит от строго лютеровского взгляда на сферу «естественной морали» как негатива христианской морали. Без христианской морали человек способен следовать гражданским законам, и в этом заложена основа благочестия, которая лишь разворачивается под влиянием религии. Наконец, в поздней редакции Мелан-хтон признает значение «дел», поскольку благочестие и свобода реализуется именно в выборе, во внешнем акте свидетельства.
Это отразилось и на последующих редакциях комментариев к «Никомаховой этике», которых Меланхтон издал не менее пяти. Он начинает трактовать философскую этику как «часть божественного закона, для гражданских нравов», признается и значение Аристотеля как наиболее «правильного» философа по сравнению с другими.
Существеннейшее же изменение, связанное, вероятно, с обогащением личного жизненного опыта Меланхтона как руководителя новых церквей, заключается в том, что проблемы общественной жизни начинают им рассматриваться как проблемы церковного устроения, поэтому уже становится невозможным противопоставить «внешние» дела «внутреннему» деланию. В Аристотеле церковь находит неожиданного союзника в деле домостроительства спасения. Меняется и отношение к тексту — беглые заметки сменяются обстоятельным поглавным разбором текста Аристотеля.
Этика рассматривается Меланхтоном в контексте управления, и это подготавливает переход его к проблемам политики и выявляет его неожиданно пристальное внимание к соответствующему трактату Аристотеля.
Список литературы Трактовка Аристотеля в ранних этических комментариях Меланхтона
- Гаврюшенко А. А. Идейная позиция Ф. Меланхтона в1518-1520 гг.: гуманист илитеолог?//Античная древность и Средние века. Свердловск, 1984. : Античнаяи средневековая идеология. С. 119-132.
- Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. В 2 т. Т. 1. М.: Наука,2006.
- Фокин И. Л. Philosophus Teutonicus. Якоб Беме: возвещение и путь немецкого идеализ-ма. СПб.: Изд-во политех. ун-та, 2014. -640 с.
- Хегглунд Б. История теологии. СПб.: Светоч, 2001. -370 с.
- Хемниц М. Основные вопросы богословия/Пер. с англ. К. Комарова. В 2 т. Т. 1.Duncanvill, 1999. -730 с.
- Flatius M. Clavis Scripturae sacrae. Basel, 1576.
- In Ethica Aristotelis commmentarius Philip Melanchto. Witebergae, 1529.
- Luther М. An libri philosophorum sint utiles aut inutiles ad theologiam//Luther D. Martin.Werke. Kritische Gesamtausgabe. Вd. 6. S. 28-29.
- Luther M. Оpera Latina. T. 5. Francofurti ad M.: Heyder & Zimmer, 1868.
- Melanthon. Opera quae supersunt omnia//Corpus Reformatorum. Halle: Bretschneider,1834-1856. 25 vols.
- Melanchthon in Europe: His Work and Influence beyond Witenberg. Edited by K. Maag.(Texts and Studies in Reformation and Post-Reformation Tought). Grand Rapids, Mich.: Baker,1999.
- Pozzo R. Logic and Metaphysic in German Philosophy from Melanchthon to Hegel//Approaches to Metaphysics/еd. W. Sweet. Dordrecht, 2004. Р. 61-74.
- Scheible H. Aufsätze zu Melanchthon.(Spätmitelalter, Humanismus, Reformation,49).Tübingen: Mohr Siebeck, 2010.