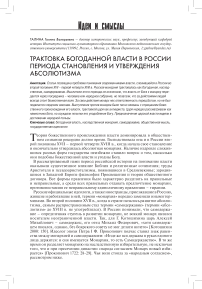Трактовка богоданной власти в России периода становления и утверждения абсолютизма
Автор: Талина Галина Валерьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме понимания современниками власти, сложившейся в России во второй половине XVII - первой четверти XVIII в. Русская монархия трактовалась как богоданная, наследственная, самодержавная. Мыслители этого периода не исключали, что власть от Бога к монарху передается через посредника - человека или народное собрание, но полагали, что за действиями людей всегда стоит божественная воля. За свои действия монарх нес ответственность перед Богом, но не был подвластен людским законам. Выступления против монарха были тесно связаны с отрицанием божественного происхождения его власти, трактовкой царя как антихриста. Царя нередко рассматривали как наместника Бога, но осуждали попытки его уподобления Богу. Предназначение царской власти видели в достижении народной пользы.
Богоданная власть, наследственная монархия, самодержавие, общественная мысль, государственная идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/170198248
IDR: 170198248 | DOI: 10.31171/vlast.v31i2.9561
Текст научной статьи Трактовка богоданной власти в России периода становления и утверждения абсолютизма
Т еория божественного происхождения власти доминировала в общественном сознании рекордно долгое время. Господствовала она и в России второй половины XVII – первой четверти XVIII в., когда начала свое становление и окончательно утвердилась абсолютная монархия. Наличие издревле сложившихся разных форм государства неизбежно ставило вопрос о том, насколько они подобны божественной власти и угодны Богу.
В рассматриваемый нами период российской истории на понимание власти оказывали существенное влияние Библия и религиозные сочинения; труды Аристотеля и псевдоаристотелизмы, появившиеся в Средневековье; зародившиеся в Западной Европе философия Просвещения и теория общественного договора. Все формы правления было характерно разделять на правильные и неправильные, а среди всех правильных отдавать предпочтение монархии, противопоставляя ее неправильному единоличному правлению – тирании.
Русские официальные идеологи, а также иностранцы, приезжавшие в Россию, жившие и работавшие в ней, термин «монархия» нередко заменяли иными терминами. Во второй половине XVII в., когда в стране началось развитие абсолютизма, самым распространенным стал термин «самодержавие» (термин «абсолютизм» до XVIII в. не употреблялся). В России понимали, что самодержавие – определенная ступень в развитии монархии, не всякий монарх являлся носителем неограниченной власти. Так, для Г. Котошихина царь Алексей Михайлович – самодержец, его отец Михаил Федорович, «хотя самодержцем писался, однако, без боярского совету не мог делати ничего» [Котошихин 2000: 150]. Идеолог эпохи Петра I Ф. Прокопович подчас ставил знак равенства между монархией и самодержавием: «Инде же вся держава в руках единого лица держится: и сия именуется Монархия, то есть Самодержавство». В то же время он разделяет монархию на наследственную избирательную, не исключая того, что и при пресечении династии «народа согласием Монарх новый избирается» [Прокопович 1722: 28-29]. Чья воля стояла за «народным согласием», рассмотрим ниже.
Работавший в России при отце Петра царе Алексее Михайловиче Ю. Крижанич называл монархию самовладством и полагал, что самовладство – самое древнее на свете, самое распространенное у народов и самое крепкое правление. Только эту форму правления он уподоблял власти Бога. Бог – первый и подлинный самовладец всего света. А всякий истинный (или полновластный) король является в своем королевстве вторым после Бога самовлад-цем [Крижанич 1965: 548]. (Напомним, что Крижанич был сторонником изменения русского титула «царь» на «король»).
Сам акт передачи божественной власти не оставался без внимания. Согласно Крижаничу, посредниками в передачи власти могли выступать люди (библейские пророки, реальные жители той или иной станы, когда-то выбравшие первого короля или же избирающие каждого короля, как в Польше). Власть могла передаваться по наследству, могла быть завоевана посредством оружия [Крижанич 1965: 572].
Характеризуя передачу власти «через пророка», Ю. Крижанич обращался к Первой книге Царств (гл. 8), которая в т.ч. повествует о том, как израильтяне просили у пророка и верховного судьи Самуила поставить над ними царя «из людей». Ранее существовавшую форму власти израильтян толкователи Библии называют богоправлением, при котором Бог является не только небесным, но и земным царем, главным военным вождем своего народа. От Бога исходит закон. Пророки, такие как Самуил, – проводники его воли1. Бог позволил Самуилу поставить царем Саула. Постепенно между Саулом и Самуилом – главами светской и духовной властей – начался разлад. Духовный лидер, видя в светском деспота, еще при жизни Саула тайно помазал на царство Давида.
В тех случаях, когда речь шла об избрании монарха народом (первого в династии или каждого из ее представителей), даже Ф. Прокопович, более всех из российских мыслителей склонный к аргументам теории общественного договора, без божественной воли в понимании происхождения власти все равно не обходился. «Ведать же подобает, что народная воля, как в избирательной, так и в наследной монархии и в прочих правительства образах, бывает не без собственного смотрения Божия, но Божиим мановением движима действует» [Прокопович 1722: 30]. В рассматриваемый нами период господство религиозного сознания, а вместе с ним и потребность подкрепить свои суждения текстом из Библии неизбежно приводили к тому, что краеугольным камнем в толковании происхождения власти становилось утверждение апостола Павла из «Послания к римлянам»: «…нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13:1).
Получение власти царя от Бога трактовало «богословие» – формулировка, предшествующая написанию большого царского титула в грамотах русских государей властодержателям иных стран. В грамоте царя Алексея Михайловича императору Священной Римской империи Фердинанду III 1654 г. способность царя «скифетр держати в православии во осмотрении и во обдержании Великого Российскаго Царствия и многих новоприбылых Государств» дана
«Бога нашего силою, и действом, и властию, и хотением, и благоволением»1. В период подготовки Великого посольства по указу Петра I 22 декабря 1696 г. во всех царских грамотах было велено писать только одно богословие «Божиею милостию»2.
Одними из важнейших в понимании и толковании оставались вопросы о том, когда высший светский правитель в своей деятельности реализует волю Бога, а когда свою; перед кем монарх ответственен за свои действия; имеет ли право народ на сопротивление власти. Ответы на них во многом зависели от того, кто задавался подобными вопросами, в каких условиях сформировалось его сознание.
XVII в. вошел в российскую историю как бунташный. Если же рассмотреть конкретные бунты, то присвоение народом себе права выступления против богоданной власти становится не столь очевидным. Идеологической причиной Смуты конца XVI – начала XVII в. стало прекращение богоданной династии Рюриковичей. В трактовке авторов второй половины XVII в., того же Г. Котошихина, свержение Лжедмитрия I произошло тогда, когда «люди узнали, что он не прямой царевич Димитрий, а вор Гришка Отрепьев», и в результате того, что он «учал было заводить вновь веру папижскую» [Котошихин 2000: 24]. Ранее современник Смуты И. Тимофеев, характеризуя Гришку Расстригу, писал, что тот «бессовестно вскочил на престол Богом помазанных [царей]», его учителем был Борис Годунов, а сам Отрепьев стал примером «для всех тех безымянных скотов, а не царей, которые были после них»; «до избрания и нововоцарения воздвигнутого Богом от рода в род наследника царского» Михаила Федоровича русская земля находилась во власти «своих же собственных рабов» [Русская… 2011: 358, 360]. Власть «выкрикнутого боярами» и ими же свергнутого В. Шуйского современники богоданной фактически не признавали. Потомки старались завуалировать факт свержения. По Котошихину, Шуйский – «некто из боляр роду великого», «царствова, той царь преставися» [Котошихин 2000: 24-25]. Соляной и Медный бунты, Псковское восстание 1650 г., движение под предводительством С. Разина не преследовали цель свержения главы государства. Явным противостоянием царю стало Соловецкое восстание – его участники 7 января 1675 г. приняли решение прекратить молиться за Алексея Михайловича. Однако для них он – «ирод», а не богоданный царь, человек, причастный к извращению «истинной веры» путем проведения грекофильской реформы. В дальнейшем в старообрядческой традиции участники восстания стали рассматриваться как пострадавшие за «благочестие и святые церковные законы и предания» [Денисов 1998]. Отчасти выступлением против Петра Алексеевича можно признать стрелецкий бунт 1682 г. Между тем поводом к нему послужила информация, что представители клана Нарышкиных убили царевича Ивана. Феномен расколовшейся власти сталкивал подданных с ситуацией невозможности защищать один властный клан без насилия над другим. В дальнейшем последовавшие призывы к неповиновению Петру I связаны с именем Г. Талицкого [Конанова 2014: 988-989], но не стоит забывать, что, по мнению этого автора, Петр – антихрист. В целом в России рассматриваемого нами периода для выступления против монарха было необходимо отрицание божественного происхождения его власти.
Реакция российского двора на выступления против власти в иных государствах была весьма специфической. Начало 1649 г. было ознаменовано казнью короля Англии, Шотландии и Ирландии Карла I. Мир эпохи Нового времени сталкивался с таким явлением, как революция. Через несколько месяцев, когда весть о событии дошла до России, царь Алексей Михайлович своим указом лишил английских купцов права беспошлинной торговли на нашей территории и ограничил торговлю пределами Архангельска. Основанием служил тот факт, что жалованные грамоты английских купцов с максимально широкими правами ранее были даны Михаилом Федоровичем по прошению Карла I ради братской дружбы и любви между монархами, но «англичане всею землею учинили большое злое дело, Государя своего, Карлуса Короля убили до смерти». Интересно, что применительно к царю Михаилу и патриарху Филарету составители указа употребляли определение «блаженной памяти», к Карлу I – «славной памяти»1. В монархической России «блаженной памяти» говорилось в первую очередь при поминании усопших государей и духовных лиц. Согласно Иоанну Златоусту, нескончаемое блаженство и общение с Богом ждет праведных в Царстве Небесном2. Хотя «нет власти не от Бога», для православной России богоданной в первую очередь была власть православных самодержцев.
Между тем в XVII – первой четверти XVIII в. в Россию активно проникали католические и протестантские идеи. Помимо этого, иностранцы, писавшие о русской богоданной власти, не были православными. Следствием этого становилось смешение на русской почве когда-то самостоятельных теорий. В каноническом праве – основе церковного законодательства и поместных православных церквей и католической церкви монарх подчинялся, с одной стороны, божественному закону, с другой – естественному закону, по которому человек обладает неотъемлемыми правами. Извратившаяся монархия, ставшая тиранией, эти права попирала. Порождением католической философии являлась идея божественного права королей. Именно с ней изначально связана трактовка монарха как наместника Бога, не подчиняющегося ничьей власти. Весьма распространенная у нас «симфония властей», отражавшая идеал взаимоотношений между светской и духовной властями, не предполагала полного совпадения божественной воли и воли православного государя. Государь мог реализовать собственную волю и делал это.
Смещать акцент в пользу воли Бога и при этом не умалять монаршую честь и достоинство мог сам царь. Для него подтверждение своих решений и действий божественным промыслом – способ усиления собственной аргументации. Цитируя «Притчи Соломона», царь Алексей утверждал: «Сердце царя – в руке Господа»3, «без Ево воли святыя, ничто же доброе не содеваетца и не утвержяетца и злое без Ево же святова попущения не содеваетца же»4. Бог – творец неба и земли, «везде Ево дела на востоке и на западе, и на юге, и на севере». Именно Бог, благословляя царя, передавал ему право «правити и раз- суждати люди своя» во всех четырех частях света. Царский чин по воле Бога стоял над всеми иными чинами в государстве. Действия подданных, от которых зависела судьба государства, например высших военачальников, должен был определять царь, поскольку «невозможно естеству человеческому на все страны делать: один бес на все страны мещется»1.
Современника царя Алексея хорвата Ю. Крижанича, отказавшегося креститься вторично по православному обряду, 16 лет проработавшего в Сибири, а позднее ставшего монахом-доминиканцем в Литве, называют тайным католиком [Черникова 2020: 89, 91]. Согласно его рассуждениям, король – живое законодательство, его отличие от ветхозаветных судей состоит в том, что «судья не мог ничего сделать по своей воле и сверх писанного закона, а король может»; «все, что делают короли, будь то справедливым или несправедливым, Самуил (библейский пророк и судья. – Г.Т. ) называет королевским правом» [Крижанич 1965: 553]. Хотя «над единожды помазанным или коронованным королем нет на свете судей в мирских делах», полностью освобожденным от ответственности перед людьми он не является. «Две узды, кои связывают короля и напоминают о его долге, это – правда и уважение или заповедь Божия и стыд перед людьми» [Крижанич 1965: 568]. Крижанич отрицал не только идею тираноборчества, но и отказ от службы несправедливому монарху. Преступление против наместника Бога (измена, любые насильственные действия) – преступление против Бога. Злой король – наказание за грехи народа. В силу этого, прося Бога о помощи, а короля – о милости, нужно исправиться самим. Наказание от Бога монарху, превратившемуся в тирана, наступает не только в вечной жизни, но и земной. Так, Бог пресек род Ивана Грозного, не дав его потомкам владеть престолом. Даже царю Алексею Михайловичу, которого Крижанич считал самовладцем, но который не исправил «людодерских» законов, доставшихся от последних Рюриковичей, Бог послал «три смуты нашего времени» (Соляной и Медный бунт в Москве и восстание в Пскове. – Г.Т. ) и «три измены» (Поднепровскую, Башкирскую и Березовскую – измену гетмана Выговского на Украине в 1657 г., волнения башкир, черемисов и татар в Приуралье и Западной Сибири в 1662 г., волнения остяков под Березовым в 1663 г . – Г.Т. ) [Крижанич 1965: 581].
Петр I знаменитым Уставом о наследии престола от 5 февраля 1722 г. 2 закреплял право монарха назначать наследника по достоинству, а не по первородству. Исторически сложившийся в России перечень способов получения власти тем самым был дополнен. Правящий государь также обладал правом отменить свое решение, «видя какое непотребство» в делах наследника. В конце петровского правления круг вопросов, в решении которых господствовала монаршая воля, расширился как никогда ранее. Между тем о божественной воле не забывали. Согласно Уставу «милостию божиею ко всему нашему отечеству» пресеклись действия против Петра и Российского государства царевича Алексея, обладавшего «авессаломскою злостию» (в Библии Авессалом – третий сын царя Давида, восставший против отца, побежденный и убитый во время бегства . – Г.Т. ). Если задачей императора являлось «попечение о целости всего нашего государства», то в расширении его территории усматривали божию помощь. «Пред Богом и его Евангелием» все верные подданые Петра Устав должны были утвердить.
Правду воли монаршей в дальнейшем обосновывал Ф. Прокопович.
Выпускник Киево-Могилянской академии, он, как известно, совершенствовал свое образование в Европе, а для этого переходил в униаты. Согласно его рассуждениям, «власть высочайшая, Величеством нарицаемая», не подлежит никакой другой «человеческой» власти, «самодержавный государь человеческого закона хранить не должен» и «за преступление закона человеческого не судим есть». Между тем «заповеди же Божий хранить должен, но за преступление их самому токмо Богу ответ даст» [Прокопович 1722: 22]. Согласно Прокоповичу, монарха нельзя лишить власти, поскольку даже в тех случаях, когда родоначальник династии был избран, народ «не может отменить воли Божией, которая волю народную двигнула и купно с оною сама действовала в установлении такой Монархии и первого Монарха избрании». Подчинение «не токмо благим и кротким, но и строптивым» монархам – повеление Святого Духа [Прокопович 1722: 31-32]. Однако же степень этого повиновения избранным и наследственным монархам весьма разнится (избирательная монархия предполагает выборы не прародителя династии, а каждого короля. – Г.Т. ). Избранный «не так указует, яко просит воли у народа, и не так скоро, и не так благопоспешно, как государственные нужды требуют, получает». Наследственный монарх, напротив, «не яко человек, но аки бы изъятый от числа смертных почитаем есть», «монархи бози суть, аще и прочиим титлу сию дает писание», «нигде такового своего исполнения, яко в наследных Монархиях не обретает» [Прокопович 1722: 40-41].
«Монархи – бози суть» – не только комплимент Прокоповича Петру I, но и проявившаяся в России тенденция уподобления царя Богу.
Ранее в устах опального патриарха Никона утверждение: «во всем приподо-бил еси человеков Богу, но и предпочтеннее Бога» – обвинение. Звучало оно в адрес составителя Соборного уложения 1649 г. боярина Н.И. Одоевского, но в еще большей степени было направлено против царя Алексея Михайловича и его политики. Само определение: «суд государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Русии», с которого начиналась глава 10 «О суде», оспаривалось Никоном, неоднократно повторявшим: «Суд Божий есть». Цитируя «Книгу Премудрости Соломона», патриарх повторял: «Слышите убо, цариe, и разумейте… дана есть от Господа держава вам и сила от Вышняго, иже истяжет дела ваша и помышления испытает, яко слузи суще царства Его»1. Если для теоретика Ю. Крижанича можно было допустить, что монарх творит закон по своей воле, то для Никона, когда-то облеченного духовной и светской властью, «тогда сердце царево в руце Божии, егда внутрь Божиих уставов пребывает». Смириться с тем, что светское законодательство стало вторгаться в те сферы, в которых ранее господствовало церковное право, для него было невозможно. Недаром в 1652–1653 гг. Никон сделал допечатки к своду церковного права Кормчей 1650 г., позиционировавшейся как альтернатива светскому законодательству и новым российским политическим реалиям [Воробьева 2015: 5]. Никон также осуждал тот факт, что цитаты из Библии о Христе стали использоваться применительно к царю Алексею Михайловичу. В частности, в первой печатной московской Библии 1663 г. на фронтисписе был изображен герб. На груди двуглавого орла вместо Георгия Победоносца изображалась конная фигура Алексея Михайловича. Над орлом располагалась лента с надписями, содержавшими такие определения, как «се Царь правдивый царствует». Никон задавался вопросом: «Кий же человек царь есть правды и мира, но разве Господь наш Иисус Христос. А иже, от пророчества поемля прореченное о
Христе Бозе, приписуют себе: что чюдно сотворил любо!» Поскольку «святии Ангели на себя Божественныя славы не восприемлют, по писанному: отдадите убо кесарева кесареви и Божия Богови», то «и царю не без муки, еже предпочи-тати самому себя и описывати между Божественных таинств Ветхаго и Новаго заветов, разширяяся»; «збышася писанное: измениша бо славу Божию в славу человеческую и четвероногих скот и птиц»1.
Борьбу со сложившейся практикой обожествления царя вел Федор Алексеевич, 8 июня 1680 г. издавший указ «О неписании в просьбах к государю выражения, чтобы он пожаловал, умилосердился как Бог»2. Виновных ждала опала.
Новое время по сравнению с эпохой Средневековья иначе расставило приоритеты в трактовке предназначения царской богоданной власти. Идея о том, что народ служит царю, а царь – Богу для спасения души уступила свое место идее о всенародной пользе. По Крижаничу, «короли должны править народом не ради своей личной пользы, а на пользу, на общее благо и на счастье всего народа» [Крижанич 1965: 573]. По Прокоповичу, «долженство» царского сана состоит в том, чтобы подданных охранять, защищать, беспечально содержать, наставлять и исправлять [Прокопович 1722: 27].
Период становления и утверждения абсолютной монархии в России пришелся на время появления и развития в мире теории общественного договора. В сознании россиян она не смогла разрушить исконные представления о богоданном царстве. В представлениях отдельных мыслителей концепты обеих теорий причудливо сочетались друг с другом. В России идея божественного происхождения отразилась как в сочинениях, посвященных власти, так и актовом материале. Однако же для живших и творивших в ту эпоху она была данностью, пояснять которую в очередной раз не считали необходимым. Писали о новом, о том, что проходило путь своего становления, – о самодержавии, но не сомневались в его богоданной природе.
Список литературы Трактовка богоданной власти в России периода становления и утверждения абсолютизма
- Воробьева Н.В. 2015. "Якоже ты, самоумне, написал Уложенную книгу без всякого свидетельства": к 365-летию принятия Соборного уложения. - Омский научный вестник. № 3(139). С. 5-8.
- Денисов С.Д. 1998. История об отцах и страдальцах соловецких, иже за благочестие и святые церковные законы и предания в настоящие времена великодушно пострадаша. М. 40 с.
- Конанова Е.И. 2014. Петр I в массовом сознании народа России XVIII в. - Гуманитарные и социальные науки. № 2. С. 988-992.
- Котошихин Г.К. 2000. О России в царствование Алексея Михайловича М.: РОССПЭН. 272 с.
- Крижанич Ю. 1965. Политика. М.: Наука. 741 с.
- Прокопович Ф. 1722. Правда воли монаршей во определении наследника державы своей… М.: Московская типография. 59 с.
- Русская социально-политическая мысль. XI-XVII вв. 2011. М.: Изд-во МГУ. 731 с.
- Черникова Т.В. 2020. Тайный католик - хорват Юрий Крижанич в Москве и Сибири. - Православие и дипломатия в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: материалы X Международной научно-практической конференции. Улан-Удэ. С. 85-92.