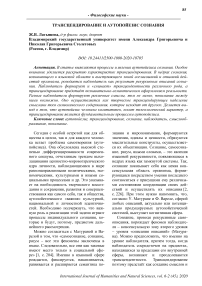Трансцендирование и аутопойезис сознания
Автор: Латышева Ж.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 6-2 (45), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье выявляются процессы и явления аутопойезиса сознания. Особое внимание уделяется раскрытию характеристик трансцендирования. В недрах сознания, возникающего в языковой области и выступающего зоной согласований и описаний действий организма, рождается наблюдатель как результат рекурсивных описаний сознания. Наблюдатель формирует и «снимает» трансцендентности различного рода, а трансцендирование предстаёт познавательно-семантическим оформлением реальности. Разные наблюдатели формируют различные смыслы, тем не менее, понимание между ними возможно. Оно осуществляется как творческое трансцендирующее наделение смыслами того символического содержания, которое исходит от другого. Делается вывод о том, что аутопойезис человека когитативен, носит телеологический характер, а трансцендирование является фундаментальным процессом аутопойезиса.
Аутопойезис, трансцендирование, сознание, наблюдатель, смыслообразование, понимание
Короткий адрес: https://sciup.org/170187862
IDR: 170187862 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10705
Текст научной статьи Трансцендирование и аутопойезис сознания
Сегодня с особой остротой как для общества в целом, так и для каждого человека встает проблема самотворения (ауто-пойезиса). Она обусловлена высокой степенью дифференцированности современного социума, отчетливым трендом выхолащивания ценностно-мировоззренческого ядра личности, наблюдающимися в мире разнонаправленными политическими, экономическими, культурными и иными социальными процессами и др. Это указывает на необходимость творческого воссоздания и сохранения, развития и совершенствования как самого себя, так и общества, аутопойетического «ваяния» культурной, национальной и личностной идентичностей. Необходимо подчеркнуть, что важную роль в реализации этой задачи играют процессы индивидуального сознания, которые и будут, поэтому, предметом дальнейшего рассмотрения.
Можно согласиться с Матураной и Варелой в том, что «самосознание, сознание, разум - все эти феномены заключены в языке. Следовательно, все они как таковые имеют место только в социальной сфере» [1, с. 204]. Именно в языковой сфере рождается, фиксируется, накапливается, развивается и расширяется семантика по- знания и миропонимания, формируются значения, идеалы и ценности, образуются мыслительные конструкты, осуществляется их объективация. Сознание, самосознание, разум, иными словами, - это явления языковой рекурсивности, появляющиеся в недрах языка как замкнутой системы. Так, сознание показывает себя как некая консенсуальная область организма, формирующаяся посредством умения последнего соотноситься с присущими ему различными состояниями координации своих действий и осуществлять их описания [2, с. 226]. При этом нужно напомнить, что, согласно У. Матуране и Ф. Вареле, сферой любых описаний, актуально или потенциально продуцируемых аутопойетической системой, выступает когнитивная сфера.
Сознание, проводя рекурсивные само-описания, порождает феномен наблюдателя - консенсуальную зону второго уровня - уровня «описания описаний» (Матура-на). Можно предположить, что именно на уровне наблюдателя, причем тогда, когда наблюдатель сосредоточен на предметах, находящихся за пределами его внутренней сферы, возникают и преодолеваются трансцендентности. Трансцендирование поэтому предстаёт как создание смыслов и знаний, как познавательно-семантическая организация внешней для наблюдателя среды, как формирование определенного сегмента реальности. Отметим, что в понимании реальности мы придерживаемся позиции конструктивного реализма (В.А. Лекторский, Р. Харре), согласно которой реальность полифонична и много-ярусна, а каждый из нас, сообразно своим целям и возможностям, выявляет лишь некоторые ее черты и аспекты [3, с. 31-42; 4, с. 14-16; 5, с. 80-82]. При этом необходимыми условиями смыслообразования и выработки знаний выступает, наряду с операцией различения и локализацией указанных процессов в сфере языка, собственное переживание смыслов и знаний.
Нужно обратить внимание, в связи с вышесказанным, на продуктивную позицию Э. Гуссерля, автора одной из самых значительных парадигм сознания Новейшего времени. Согласно данной позиции, из всех сущностных доминант человека лишь сознание может как создавать (конституировать) различные – природные и социально-культурные – трансцендентности, так и преодолевать, «снимать» их. Причем такое трансцендирование осуществляется, считает Гуссерль, в познавательных актах, ведь конституированные сознанием трансцендентности представляют собой не что иное, как «интенциональный коррелят» разума [6, 339-342; 7, 205-213].
Важно и то, что Гуссерль доказывает существование смыслопорождающих интенциональных переживаний. Поток таких переживаний он трактует в качестве целостных, эйдетических актов всегда наполненного какой-либо предметностью (интенционального) сознания; актов, имеющих структуру «ноэза (cogito), ноэма (cogitatum), гиле». Гуссерль, кроме того, отмечает, что сама возможность переживаний, возможность конститутивного трансцендирования обусловлена потенциальной доступностью трансцендентного – вещей и предметов – сознанию и опыту. Трансцендентное в данном случае выступает в виде неопределенного, аморфного горизонта актуального Я, а перевод этого горизонта в статус оформленной предмет- ности интенциональных актов, его непосредственные, так сказать, осознавание и понимание, предстают трансцендировани-ем.
Используя терминологию теории ауто-пойезиса Матураны и Варелы, можно сказать, что Гуссерль понимает сознание как рекурсивную систему. В этом свете гус-серлевская точка зрения согласуется с хронологически более поздними выводами чилийских исследователей. Вместе с тем можно утверждать, что латиноамериканские биологи и эпистемологи вносят новые важные ракурсы и детали в гуссерлев-ское видение сознания, смыслообразова-ния и понимания и добиваются этого во многом посредством введения понятия «наблюдатель».
Действительно, Матурана утверждает, что целью аутопойетических систем выступает исключительно их же аутопойе-зис, поэтому всё, что происходит с системой, расценивается ею в контексте продвижения или препятствования реализации самотворения. Подобная установка выступает единственным, имманентным смыслом существования живых систем. Иной взгляд – взгляд со стороны – и иное понимание деятельности живых систем исходит от наблюдающей за ними инстанции как уровня повторения этой же системы (в рамках данной же системы), на котором описываются её сообразованные через языковость действия и состояния [2, с. 225-226]. Именно наблюдатель структурирует и дифференцирует предмет своего описания, придавая составляющим синкретичного по сути процесса аутопойезиса конкретные цели, смыслы, значения.
Для сравнения отметим, что у Гуссерля есть сопоставимое с термином «наблюдатель» понятие рефлексии, которое имеет два аспекта трактовки, истолковываясь и как метод познания сознания, и как имманентная характеристика сознания. Взятая в первом аспекте, рефлексия показывается Гуссерлем не только как ретроспективный, но и как конститутивный процесс, обеспечивающий формирование сущностных взаимосвязей содержания сознания. Однако вместе с тем, процедура рефлексии в отличие от деятельности наблюдателя предстает не смыслообразованием, а феноменологическим описанием и анализом интенциональных переживаний, выявлением смыслов и их модусов, которые конституируются именно сознанием.
Нужно заметить, что обнаруженные наблюдателем цели, конституированные в ходе трансцендирования смыслы и значения аутопойезиса имеют релевантность именно для этого наблюдателя. Но это не означает, что понимание данной семантики другими наблюдателями невозможно, ведь сходные аутопойетические системы, особенно если они ведут существование в общей социокультурной среде и похожих условиях, связаны общей или близкой биографической ситуацией, однородными переживаниями, – формируют сходный опыт, обширную языковую сферу взаимодействия и, следовательно, имеют больше возможностей для понимания друг друга. Матурана употребляет в этой связи термины «функциональная конгруэнтность» и «гомоморфность», характеризуя ими такие состояния коммуницирующих сторон, при наличии которых возможно достижение взаимопонимания [2, с. 225].
Интересно, что ровно об этом писал в XIX столетии российский филолог, литературовед и мыслитель А.А. Потебня: именно звуки речи адресанта, воспринимаемые адресатом, вызывают в последнем реминисценции своих личных аналогичных речевых звучаний, что, в свою очередь, выводит его уже к самому предмету говорения, обеспечивая, тем самым, понимание [8, с. 117]. Иными словами, и Потебня подчеркивает, что для достижения взаимопонимания необходима гомоморф-ность состояний общающихся. Кроме того, позиции Потебни и Матураны сходятся в том, что при общении знания и смыслы не транслируются, аутентичный внутренний строй мыслей друг друга скрыт от собеседников, а их когнитивные и иные духовные ориентиры могут существенно расходиться (собеседники – разные наблюдатели) [2, с. 117-118]. Однако «чудо» понимания все-таки происходит и заключается оно в личностном трансцензусе – собственном сотворении знаний и смыслов познающим субъектом и интимном, уни- кальном их «проживании». При этом именно речь, слово «будит» воображение, активизирует сознание и самостоятельное мышление, приводя их в творчески-преодолевающее состояние; актуализирует запас предыдущих размышлений, имеющихся опыта и информации. Иначе говоря, благодаря трансцендирующему напряжению, выводящему субъективность за пределы внешне-материального слоя воспринимаемой человеческой речи, происходит движение вовнутрь, в глубины и ширь внутренней социальности, внутрисоциаль-ных смыслов (термины И.Т. Касавина) [9, с. 24, 32-33] и собственной духовной жизни. Тем самым, становится возможным понимание, а по сути, творческое наполнение личностно выработанными и пережитыми смыслами и значениями того часто небуквального, символического содержания, которое передается говорящим слушающему. Следует согласиться, в этой связи, с такими авторами, как А. Шюц, Т. Лукман, Г. Рот и другими, уверенными, что «один и тот же знак/сигнал может иметь совершенно различные значения, и наоборот, одно и то же значение может передаваться посредством совершенно различных знаков» (курсив Г. Рота) [2, с. 105].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что аутопойезис второго и третьего порядка – человека и общества – осуществляется в рамках и посредством функционирования когитативной сферы и имеет телеологический характер. Целью его выступает перманентное продолжение само-творения, которое на уровне аутопойезиса отдельного человека выражается, в первую очередь, в индивидуальной самоактуализации, а на уровне социального аутопойе-зиса – в самоактуализации как конституировании идентичности социальных систем в ходе их от-дифференциации на основе различия система/окружающий мир. При этом социальные системы предоставляют возможности и ресурсы для аутопойезиса человека, и наоборот, каждый человек как аутопойетическая система вносит свой вклад в социальное самовоспроизводство, то есть, действует описанный Н. Луманом принцип взаимопроникновения.
Развертывание аутопойезиса человека неосуществимо без трансцендирования. Как показывает проведенное исследование, фундаментальные операции, конституирующие социальный ярус самотворя-щей системы человека – коммуникация, речь, смыслообразование, наблюдение, понимание – обладают функцией транс-цендирования, последнее предстает их глубинной основой, базовым процессом. Данные операции нацелены, поэтому, на преодоление изолированности и разобщенности людей как духовно-телесных целостностей, на относительную «дешифровку», «приспособление» к трансцендентному, запороговому (термин Г.С. Батищева) социокультурному содержанию, непрестанно возникающему в современном поликультурном и полисемантическом социуме и несущему для него опасность в силу своей непостигнутости; на выведение аутопойетических процессов на новые качественные уровни развития и совершенствования, сообщение этим процессам диалектического единства.
Список литературы Трансцендирование и аутопойезис сознания
- Матурана У., Варела Ф. Древо познания. Биологические корни человеческого понимания / Пер. с англ. Ю.А. Данилова. - М.: Прогресс-Традиция, 2001. - 224 с.
- Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания (с пер. ориг. работ Я. Ватцлавика, Э. фон Глазерсфельда, X. фон Фёрстера, У. Матураны, Ф. Варелы и Г. Рота). München: PHREN, 2000. - 332 с.
- Лекторский В.А. Можно ли совместить конструктивизм и реализм в эпистемологии? // Конструктивизм в теории познания / Отв. ред. В.А. Лекторский. - М.: ИФРАН, 2008. - С. 31-42.
- Касавин И.Т., Порус В.Н. Современная эпистемология и ее критики: о кризисах и перспективах // Эпистемология и философия науки. - 2018. - Т. 55. №4. - С. 8-25.
- Сокулер З.А. Философская теория познания: будущее под вопросом? // Вопросы философии. - 2017. - № 12. - С. 79-90.
- Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология / Пер. с нем. Д.В. Скляднева. - СПб.: Владимир Даль, 2004. - 398 с.
- Гуссерль Э. Картезианские размышления / пер. с нем. Д.В. Скляднева. - СПб.: Наука: Ювента, 1998. - 316 с.
- Потебня А.А. Полное собрание трудов: Мысль и язык. - М.: Лабиринт, 1999. 300 с.
- Касавин И.Т. Понятие знания в социальной гносеологии // Познание в социальном контексте / Отв. ред. В.А. Лекторский, И.Т. Касавин. - М.: ИФ РАН, 1994. - С. 6-36.