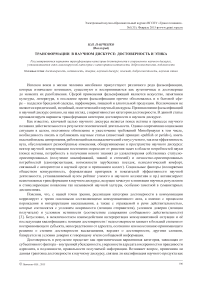Трансформации в научном дискурсе: достоверность и этика
Автор: Панченко Надежда Николаевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Жанровые трансформации в разных видах дискурсов
Статья в выпуске: 1 (35), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются варианты трансформации категории достоверности в современном научном дискурсе, устанавливается связь анализируемой категории с категориями истинности, добросовестности, подлинности
Достоверность, истинность, доверие, научный дискурс, плагиат, добросовестность, научная этика
Короткий адрес: https://sciup.org/14822194
IDR: 14822194
Текст научной статьи Трансформации в научном дискурсе: достоверность и этика
Испокон веков в жизни человека неизбежно присутствуют различного рода фальсификации, которые изначально возникают, существуют и воспринимаются как аутентичные и достоверные до момента их разоблачения. Сферой применения фальсификаций являются искусство, памятники культуры, литература, в последнее время фальсификации прочно обосновались и в бытовой сфере – подделки брендовой одежды, парфюмерии, пищевой и алкогольной продукции. Исключением не являются юридический, медийный, политический и научный дискурсы. Проникновение фальсификаций в научный дискурс связано, на наш взгляд, с вариативностью категории достоверности. В данной статье проанализируем варианты трансформации категории достоверности в научном дискурсе.
Как известно, ключевой целью научного дискурса является поиск истины в процессе научного познания действительности в результате полемической деятельности. Однако современная социальная ситуация в целом, постоянное обновление и ужесточение требований Минобрнауки в том числе, необходимость писать и публиковать научные статьи (известный принцип «publish or perish»), иметь высокий индекс цитирования, работающий как на академический статус ученого, так и на эффективность вуза, обусловливают разнообразные изменения, обнаруживаемые в пространстве научного дискурса: вектор научной коммуникации постепенно переходит от решения задач в области потребностей науки (поиск истины, потребность в получении нового знания) до удовлетворения собственных статусноориентированных (получение квалификаций, званий и степеней) и личностно-ориентированных потребностей (самопрезентация, возможности зарубежных поездок, психологический комфорт, связанный с авторитетом в научной среде и признанием коллег). Социальные факторы (поощряемая обществом конкурентность, формализация критериев и показателей эффективности научной деятельности, устанавливаемый вузом рейтинг ученого и научного коллектива и пр.) активизируют всевозможные трансформации в научном дискурсе, ведущие зачастую к имитации научных результатов и стимулирующие появление так называемой научной халтуры, особенно заметной в гуманитарных дисциплинах.
Поясним, что, с нашей точки зрения, реализация категории достоверности в коммуникации коррелирует с тремя основными составляющими коммуникативного акта, а именно с процессом порождения и интерпретации высказывания, а также с отражаемой в речи действительностью, которые соотносятся с условием искренности (позиция отправителя), условием доверия (позиция получателя) и условием истинности (соответствие содержания сообщаемого действительности) [3]. Безусловно, в межличностном взаимодействии интерпретация коммуникативной ситуации и её последующая квалификация с позиции достоверности / недостоверности зависит в большей степени от воспринимающего субъекта, непосредственно от адресата, осознанно или неосознанно принимающего решение о степени достоверности высказывания, вердикт о достоверности, другими словами, базируется на условии доверия к говорящему и/или сообщаемой информации.
Достоверность в результате предстает как прагматическая вариативная категория, зависящая от субъективного фактора – внутренней убежденности, уверенности адресата в искренности и правдивости адресанта, в подлинности, правильности получаемой информации. Возникает вопрос, применима ли данная трактовка достоверности к научному дискурсу, связана ли квалификация научного продукта как достоверного с прагматическим факторам – доверием адресата. Ответ на данный вопрос не является однозначным и зависит от многих факторов, в том числе научной квалификации адресата, его взглядов, научных интересов и приоритетов. Не секрет, что лидеры и идейные вдохновители, убежденные сторонники фолк-наук, псевдонаучных движений, выступающих под флагом «неофициальной» / «альтернативной» науки и искренне верящих в истинность результатов и в собственную правоту, умеют завоевать признание широкой аудитории и пытаются настроить её против «консервативно»-настроенных ученых. Достаточно вспомнить историко-лингвистическую теорию М.Н. Задорнова, представляющую собой не остроумную пародию, как это может показаться на первый взгляд, а убежденность автора в том, что, в частности «латынь – обрубок древнеславянского языка, специально придуманный для произнесения молитв», привести его примеры ложной этимологии, объясняющей значения слов русского языка, якобы содержащих корень «РА» (что означает ‘солнечный свет’), например, «радость – достать РА» и многие другие, представленные в частности в телепередаче «Гордон Кихот» (телеканал «Первый», вып. № 3, от 19.09.2008). При этом заметим, что сторонники М. Задорнова, филолог А. Драгункин, доктор философских наук В.А. Чудинов и др., на наш субъективный взгляд, выглядели в глазах собравшейся аудитории более убедительными, чем возмущенные от невежества приверженцы академических научных взглядов.
Поскольку суть научной деятельности детерминирована ценностью истины, не вызывает сомнений, что категория достоверности в научном дискурсе связана в первую очередь с условием истинности, выступает в качестве ее критерия и трактует полученные результаты как соответствующие / несоответствующие действительности. Неслучайно достоверность включается в структуру «паспортной» части научного исследования как один из параметров, инвариант научного знания наряду с научной новизной, теоретической значимостью, актуальностью и т.д. Достоверность выводов / сформулированных научных положений / полученных научных результатов диссертационного исследования / монографии оценивается рецензентом / оппонентом, который учитывает ряд факторов: аутентичность и репрезентативность проанализированного (теоретического и практического) материала, достаточное количество исследовательских методов и их адекватное использование, аргументированность выводов и суждений в ходе анализа, апробацию полученных результатов, грамотность оформления ссылок и корректность цитации использованных теоретических источников и др. Соответственно, категория достоверности затрагивает не только содержательную часть (научный продукт, полученное в процессе исследования знание), но и формальную презентацию (оформление текста научного произведения), в связи с чем представляется целесообразным разграничивать достоверность содержательную, соотносимую с концептуальной стороной научного исследования, и формальную достоверность, соотносимую с внешней стороной, презентацией научного результата.
Содержательнаядостоверностьнаучногопродуктаобеспечиваетсяинформативнойдостаточностью, затрагивающей уровень собственного концептуального знания и уровень иллюстративного материала. Отклонения как в сторону информативной недостаточности научного текста (преобладание фатики над информативностью, неполнота данных, рассуждения, не подкрепленные практическим материалом / статистическими показателями, пустословие, цитирование преимущественно в декоративных целях и т.д.), так и в сторону информативной избыточности (терминологическая перегрузка, максимальная / излишняя детализация, обилие формул, клишированных конструкций, аббревиатур и т.д.), не обязательно нарушают условие истинности, но непременно ведут к трансформации достоверности.
Ученые, анализируя современное состояние научного дискурса, также обращают внимание на изменения, которые происходят сегодня в научном тексте, а именно процессы десемантизации, то есть буквально – процессы обессмысливания научного дискурса, отмечая при этом, что происходит перенос акцента «с решения и даже обсуждения научных проблем на перформанс научного текста, отвечающего всем формальным требованиям, как бы эти требования ни ужесточались. … Постепенно она становится узусом научного дискурса: все больший уровень перформативности и меньший уровень текстуальности воспринимается нами как допустимый» [6: 18-19]. В частности, на один из существующих примеров обессмысливания научного исследования указывает С.В. Иванова: «Один из часто встречающихся пунктов новизны в диссертации – это введение нового или уточнение известного термина. Однако нередко эта надуманная трактовка не имеет никакой существенной цели, дается лишь ради наукообразия и усиления текста диссертации при ее научной “пустоте”» [2].
С содержательным планом достоверности неразрывно связана формальная достоверность научного текста, которая коррелирует с уровнем дискурсивной информации, включающей метаязыковую информацию, знания автора публикации о формально-структурной и жанрово-стилистической организации текста, умения логического изложения полученных результатов. Формальная достоверность, таким образом, соотносится с позицией адресанта и в данном случае коррелирует не с условием искренности говорящего субъекта, характерной для личностно-ориентированного дискурса, а скорее с честностью, добросовестностью адресанта, с его общей установкой на достоверное или недостоверное коммуникативное поведение, мотивируемой различными (не только коммуникативными) намерениями и целями.
Другими словами, в научном дискурсе достоверность связана не только с категорией истинности, но и с такими категориями, как добросовестность, научная этика, нарушение принципов которой ведет к нивелированию достоверности. Следовательно, рассуждая о вариативности достоверности в научном дискурсе, нельзя не упомянуть о проблеме использования различных приемов варьирования чужих идей – от компиляции до плагиата, снижающих достоверность научного знания и/или влияющих на его восприятие как достоверного. В этом случае варьирование достоверности научного дискурса происходит не на оси «истинность – ложность», а в рамках противопоставления «подлинность – подделка», «честность – нечестность». Систематизация видов недобросовестных научных сочинений позволяет выделить следующие варианты трансформации достоверности, соотносимые с формальным уровнем текстовой организации.
Прежде всего речь идет о плагиате и его разновидностях. Подчеркнем, что плагиат является вариантом трансформации достоверности именно на уровне формальной организации текста, презентирующей результат научного поиска, поскольку «идея не является объектом интеллектуальной собственности» [7, с. 27]. Коль скоро одна и та же идея может «посетить» голову одновременно или с некоторым временным промежутком нескольких работающих независимо друг от друга исследователей, плагиатом не может быть признано заимствование научного содержания, научных идей, если не заимствуется сама форма, в которой они выражены. «Плагиат или компиляция означают заимствование формы (выделено нами. – Н.П. ), материализующей научный результат» [Там же].
Обязательным условием оформления научного продукта является, как известно, наличие ссылок, фиксирующих авторство идеи / научного результата / введение в научный обиход термина, демонстрирующих их первичность и призванных избежать плагиата. Специфика интернет-среды и накопленный солидный электронный багаж научной информации предоставляет безграничные возможности с легкостью находить и копировать любые тексты, что способствует интеллектуальной нечестности, с одной стороны, и стимулирует поиск путей противодействия плагиату – с другой. И нет необходимости говорить об отсутствии адекватных и надежных средств определения научного заимствования, электронная система «антиплагиат» в данном случае не является исключением*. Единственным способом повлиять каким-либо образом на ситуацию и противостоять научной недобросовестности остается активная позиция ученого, обнаружившего плагиат.
Однако в России, как правило, случаи интеллектуального мошенничества не принято предавать гласности, научной общественности практически не известны заявления о плагиате, либо они являются единичными, связанными с аннулированием ученых степеней губернаторов области или депутатов Госдумы. В большинстве случаев обнаруженное ученым использование своего текста (равно как и текста своих коллег) в чужой публикации без ссылки на источник умалчивается (следует признаться, что автор данной публикации не является исключением). Проведенный нами экспресс-опрос коллег, докторов филологических и педагогических наук, показал, что 87 % опрошенных неоднократно сталкивались со случаями заимствования своего текста, но лишь 5 % обратились в издательства и/ или к авторам, непосредственно указав на обнаруженный случай плагиата. Остальные респонденты при ответе на вопрос: Как Вы отреагировали на обнаруженный плагиат? предлагали следующие, в большинстве случаев эмоционально маркированные, реакции: расстроилась; изменила отношение к N; потеряла уважение к N; махнул рукой.
Примечательно, что ситуация за рубежом приблизительно такая же, хотя хорошо известно, что культура научного цитирования, вырабатываемая в процессе подготовки самостоятельной учебной или научной работы, например, в Америке, воспитывается последовательно в академических заведениях разного уровня, а кодекс чести учебных заведений квалифицирует как мошенничество не только подсказки, списывание, плагиат, фальсификацию данных и т.п., но и неинформирание об этих нарушениях:
You are an accessory to cheating if you witness or have direct knowledge of any forms of cheating and fail to inform an authorized person.
Тем не менее, данные опроса, проведенного Американской ассоциацией развития науки в 1992 г., свидетельствуют, что лишь 2 % опрошенных ученых вынесли на суд общественности обнаруженные случаи плагиата (приводится по [7]).
Вариантом формальной недостоверности является наиболее распространенная, на наш взгляд, форма плагиата – компиляция, т.е. « составление какого-либо текста , произведения путём использования чужих текстов, трудов без самостоятельной обработки источников и без ссылок на авторов » [1].
Любопытным в этой связи представляется новый феномен, обнаруженный в пространстве научного дискурса и получивший название научного троллинга, который подтверждает имеющуюся тенденцию к самопрезентации научного дискурса. Приведем факты, описанные в одной из публикаций на сайте Хабрахабр [5] – медиаресурсе для IT-специалистов. В публикации речь идет о «фальшивых» научных статьях, составленных при помощи SCIgen (An Automatic CS Paper Generator) – автоматического генератора наукообразных текстов . Французский учёный С. Лаббе(Cyril Labbé) из университета Гренобля, исследуя сборники публикаций крупнейших научных издательств, выявил «фейковые» научные статьи, представляющие по сути своей компьютерным способом сгенерированную наукоподобную чепуху (computer-generated nonsense). В их число попали материалы Международной конференции в Китае, проведенной в 2013 г. (proceeding from the 2013 International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering, held in Chengdu, China). Авторы публикации, озаглавленной ‘TIC: a methodology for the construction of e-commerce’, рассуждают о «текущем статусе эффективных архетипов и разработках в области эмуляции контроля перегруженности» и пишут, что в исследовании они “concentrate our efforts on disproving that spreadsheets can be made knowledge-based, empathic, and compact” [8] («сконцентрировали усилия на опровержении того факта, что электронные таблицы могут быть основаны на знаниях, при этом быть эмпатичными и компактными» [5]). Выяснилось, что троллинг научного дискурса – достаточно распространенное явление, только за 2008 – 2013 гг. из архивов было удалено более 120 фейковых научных статей*.
Помимо описанных нами вариантов трансформации формальной достоверности, к последним также можно отнести выделяемые исследователями формы плагиата, такие как принуждение к соавторству и автоплагиат [7]. В первом случае речь идет не о степени личного участия каждого автора публикации, а об использовании исследовательского материала своих соавторов. Во втором – недостоверность соотносится с нечестностью автора публикации, тиражирующего свою публикацию или дублирующего основную смысловую часть её содержания в различных изданиях под аналогичным или вариативным названием. Сдерживающим фактором автоплагиата является требование некоторых издательств письменных авторских подтверждений о первичности публикации и четко обозначенная публикационная этика издания, например: каждая публикуемая в журнале статья должна содержать список источников (референсы), не должна содержать плагиат или заведомо фиктивные данные; не должна по содержанию повторять уже ранее опубликованные в других источниках результаты [4].
Резюмируя сказанное, заметим, что трансформации достоверности в научном дискурсе обусловлены вариативностью категорий истинности, подлинности, добросовестности, затрагивают разные уровни информации научного текста, что позволяет разграничивать содержательную и формальную достоверность.
Список литературы Трансформации в научном дискурсе: достоверность и этика
- Викисловарь -Свободная энциклопедия. . URL: http://ru.wiktionary.org/wiki/(дата обращения: 19.08.14).
- Иванова С.В. К вопросу о плагиате в научных исследованиях: материалы выступления на секции «Интеллектуальная собственность в сфере образования, науки, творчества и культуры» VI Международного форума «Интеллектуальная собственность -XXI век». 23 апреля 2013 г. . URL: forum-ip.ru›LoadFile.aspx?file_id=14758 (дата обращения: 25.09.14).
- Панченко Н.Н. Достоверность как коммуникативная категория. Волгоград: «Перемена», 2010.
- Публикационная этика издания//Вест. Томского гос. пед. ун-та. . URL: http://vestnik.tspu.ru/ndex.php?option=com_content&task=view&id=4966&Itemid=497 (дата обращения: 27.05.14).
- Хабрахабр . URL: http://habrahabr.ru/(дата обращения: 19.06.14).
- Хазагеров Г.Г. Обессмысливание научного дискурса как объективный процесс//Социологический журнал. № 2. 2010. С. 5-20.
- Чернявская В.Е. Плагиат как социокультурный феномен//Изв. Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. № 3. 2011. С. 26-31.
- Nature.com. . URL: http://www.nature.com/news/publishers-withdraw-more-than-120-gibberish-papers-1.14763 (дата обращения: 25.09.14).