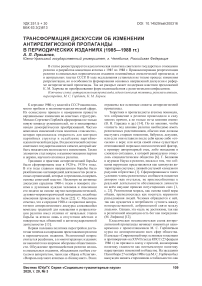Трансформация дискуссии об изменении антирелигиозной пропаганды в периодических изданиях (1985-1988 гг.)
Бесплатный доступ
В статье реконструируется идеологическая политика советского государства в отношении религии и разработка концепции атеизма с 1985 по 1988 г. Проанализирована репрезентация религии в специальных периодических изданиях посвящённых атеистической пропаганде, и в центральных газетах СССР. В ходе исследования установлен не только процесс изменения репрезентации, но и особенности формирования основных направлений дискуссии о реформе антирелигиозной пропаганды. Так же раскрыт сюжет поддержки властями предложений К. М. Харчева по преобразованию форм взаимодействия с религиозными конфессиями.
Антирелигиозная пропаганда, идеологическая политика, религия и атеизм, перестройка, м. с. горбачёв, к. м. харчев
Короткий адрес: https://sciup.org/147233408
IDR: 147233408 | УДК: 251.5 | DOI: 10.14529/ssh200316
Текст краткого сообщения Трансформация дискуссии об изменении антирелигиозной пропаганды в периодических изданиях (1985-1988 гг.)
К середине 1980-х у властей в СССР накопилось много проблем в политико-идеологической сфере. Их осмысление привело к намерениям провести кардинальные изменения во властных структурах. Михаил Сергеевич Горбачёв сформировал не только новую команду руководителей, но и инициировал начало демократических преобразований. Частью комплекса изменений стала политика «гласности», которая предполагала открытость для контроля партийных структур и ослабление партийноидеологической цензуры. В идеологической системе советского государства имелся элемент, который мог быть показателем воли власти к изменениям. Таким элементом стал вопрос о взаимоотношении партии и церкви, научного атеизма и религии.
Традиции и практики антирелигиозной борьбы были сформированы еще в 1920-е, 1930-е годы. В эти годы главным направлением борьбы было разоблачение «антинародной деятельности» религиозных организаций, которые «стремились подорвать основы советской власти». Несмотря на активные дискуссии середины 1960-х годов о повороте атеизма к духовным нуждам человека и изменении его подачи на основе научно-материалистической, духовно-мировоззренческой концепции, подобные изменения проведены не были [22]. С. Муслимов отмечал, что к середине 1980-х «в практике авторитетного антирелигиозного дискурса сложившийся комплекс традиций для освещения и репрезентации религии имел отличия от начальных этапов борьбы за атеизм лишь в отсутствии жёстких и поверхностных обвинений в антигосударственной деятельности» [13].
Первая половина политики перестройки достаточна типична в содержании представления религии в периодических изданиях. Религиозный вопрос считается решённым, а в многотиражных изданиях не выносится на широкое обозрение общественности. Обсуждение противодействия религии велось в специальных изданиях, обладающих особым статусом и авторитетом, таких как «Наука и Религия». «Вопросы научного атеизма» и «Коммунист». В них отражены все основные сюжеты антирелигиозной пропаганды.
Теоретики и пропагандисты атеизма понимали, что «обращение к религии происходило в силу многих причин, а не только из-за влияния извне» (В. И. Гараджа и др.) [14]. По их мнению, чтобы «попасть под влияние религии необходимо иметь религиозных родственников, обычно ими должны выступать старшее поколение, бабушки, дедушки, или если они оставили после себя какие-либо «отсылки» к вере; или когда самой семье существует отягощающий морально-психологический фактор, к примеру авторитарный отец, либо попадание в сложную ситуацию, к которой равнодушно отнеслось социалистическое общество [6]. Г. Беликова в журнале Наука и религия, писала о том, что «община верующих представляется как замкнутая авторитарная система с лживой системой «показного радушия и братства» [1]. Сформированные в таких условиях члены религиозных сообществ подаются автором «как отсталые, не приспособленные к реальной деятельности обозлившиеся личности во всём ищущие происки потусторонних сил» [1, c. 23]. Религиозная мораль, как основа такой веры общин, преподносилась как носитель коренного разъединения людей. Человек обращается к ней, так как нуждается в потребности «утолить жажду непосредственной, добровольной связи между людьми». Однако, эта «цель не достижима, так как в религиозной концепции есть бог как посредник» (М. Лифшиц) [12].
Классическая позднесоветская схема антирелигиозной пропаганды начинает изменяться одновременно с провозглашением М. С. Горбачёвым курса на демократизацию всех сфер общества. В докладе «Современный мир: основные тенденции и противоречия» на XXVII съезде КПСС (25 февраля 1986 г.) он призвал к союзу с прессой, анонсировав политику гласности как неотъемлемую политику нарастающих изменений в обществе. На заседании Политбюро 27 октября 1986 года М. С. Горбачев был вынужден назвать сторонников «стабильности» как
«горе-теоретиков от марксизма» [17, c. 40, 54, 67— 70]. Прежняя схема концепции «ускорения», бывшей компромиссом между командой реформ и старой номенклатурой, переставала работать. Начинается медленное изменение в идеологической сфере и в антирелигиозной пропаганде, как её неотъемлемой части. Призывы привести идеологическую работу в соответствии с реалиями и практиками жизни появились в 1986 г. в редакционной статье журнала «Коммунист» [9, c. 3—5]. По воспоминаниям К. М. Харчева уже к середине 1980-х гг. среди некоторых членов ЦК сложилось мнение о неизбежности существования церкви в социалистическом государстве, требовалось лишь решить, как это должно быть реализовано и подано что бы не «лишиться лица» [20].
Однако изменения в атеистической работе наметились лишь в 1987 году. Отметим, что в рамках гласности в профильных изданиях были допущены материалы социологов, претендующие на объективное освещение реальных процессах в обществе. Верующие в этих опросах оказались не настолько архаичными как их рисовали в предыдущий период. Они могли «ставить науку выше религии или придерживаться мнения о равном соотношения влияния науки и религии» (В. Сапрыкин) [19]. Публикуемые опросы также выявили мнение «о неудовлетворительности атеистической работы». Эти данные, по мнению, Л. Миловидовой и М. Каширина были намёком на кризис в системе пропаганды атеистического воспитания [13].
Незыблемые раньше пропагандистские антирелигиозные тезисы претерпевают изменения. Так положение «религия опиум для народа» в рассуждениях об атеистической пропаганде предстает в качестве тезиса о том, что «наркотические средства губят человеческие жизни». Более того, И. Икрамов использует тезис-примиритель о том, что «порой человеку без успокаивающих и обезболивающих медикаментов не обойтись» [7].
Изменение начинаются и в представлении об идеологемах религиозной жизни. Участвующие в обрядах верующие начинают определяться как люди простые, но наивные с мистическими чертами. В описание самих священнодействий нет нагнетания негатива. Верующих перестают подавать как оторванных от окружающего мира. Сами прихожане церкви уже для пропаганды не какие-то «отвлечённые» люди, а сложившиеся люди советского общества с конкретными профессиями. Однако советская антирелигиозная пропаганда ещё использует тезис старой системы атеистического воспитания о том, что «непонятно, зачем успешным советским людям соприкасаться и участвовать в религиозной сфере» (Ю. В. Кузьмина) [10].
После январского 1987 г. Пленума ЦК КПСС специалисты и журналисты стали оценивать существующую систему атеистического воспитания более критично. Теперь авторы журнальных и газетных статей предлагают смотреть на религиозные убеждения не в духе абстрактных утверждений об «отставании сознания от бытия» или ссылок на «родимые пятна капитализма», а как на «обобщение — пусть неадекватное, превратное но собственного житей- ского и социального опыта, связанного с интересом к культуре отечества и мира» (А. И. Калибанов, Л. Н. Митрохин) [8]. Таким образом, образовавшийся рубеж в идеологической политики конца 1987 года наглядно начинает проявляется в специализированных изданиях по идеологии и атеизму. Однако, и старые идеологемы атеистического дискурса оставались в силе и охотно применялись.
М. Одинцов и Б. Никифорова отмечали, что реальные изменения в области церковно-государственных отношений, тем более в провинции, стали ощущаться в лучшем случае лишь в 1988—1989 гг. [15; 16, c. 49]. Общеизвестен факт колебаний властей в проведение реальных шагов по либерализации отношения в религиозной сфере. Именно из-за этого основной силой по «улучшению» антирелигиозной пропаганды и развитию теории атеизма стал Совет по делам религии под председательством К. М. Харчева. Совет инициирует постановления по оптимизации и регуляции отношений между властями и церковью, а также готовит для ЦК КПСС аналитические записки по ситуации с антирелигиозной пропагандой
Через несколько дней в газете «Правда» была опубликована статья А. Ф. Окулова доктора философских наук и редактора журнала «Вопросы научного атеизма». Его мнение о взаимоотношениях властей и церкви радикально отличалась от «закон-ничества» К. М. Харчева. Реакцию на принятие Декрета со стороны религиозных сообществ он описал лишь в категориях «враждебности к революции». Допущенные властями ущемления религиозных конфессий он определял как «незначительные перегибы». Признавая изменения, произошедшие с церковью и верующими к текущему моменту, Александр Фёдорович, был обеспокоен «начинающейся политикой пропаганды идеи о её (религии) социальной значимости» [16]. В конце статьи он призывал всецело поддержать «благородное и благодатное дело духовного освобождения людей от религиозных и иных иллюзий» [16].
По случаю юбилея Ленинского декрета в газете «Советская Россия» также была опубликована статья В. И. Гараджи директора Института научного атеизма при Академии общественных наук. Он писал о том, что «…Декрет стал не только правовым документом, но и точкой для союза с верующими-трудящимися в совместном строительстве новой жизни, подчинения мировоззренческих различий политическому сотрудничеству во имя главных целей…» [5]. Поэтому автор сделал вывод о том, что всякое отклонение от этой фабулы наносит вред не только обоим сторонам, но и главной цели — построению общества будущего. Участие представителей религии в политике и средствах массовой информации Виктор Иванович определил «как позитивный знак, в том смысле, что это является показателем «обмирщения» забот верующих, делающих их не равнодушными к процессам мира и общества…» [5].
Появление разных подходов к религии в официальной партийной прессе было прямой заслугой политики гласности. Однако проявлять инициативу по реформе политики в религиозной сфере М. С. Горбачёв не спешил. Власти видимо придумали обходную схему. Патриарх Пимен прислал в Совет по делам религии официальное письмо-прошение о подготовке церкви к празднованию 1000-летия Крещения Руси. После этого председатель Совета направил прошение с собственными дополнениями в ЦК, где в ходе обсуждения было и принято эпохальное решение о встречи Генерального секретаря с Патриархом [15, c. 46—49].
Эта встреча состоялась 29 апреля 1988 г. В сообщении о встрече специально указывалось, что официальным поводом для неё стало письменное обращение Патриарха Пимена к М. С. Горбачёву по поводу празднования 1000-летия крещения Руси. Материал ТАСС был выведен газетами «Правда» и «Известия» 1 мая на передовую полосу. Здесь впервые для центральной печати была помещена и фотография общей встречи Горбачёва с иерархами РПЦ. Текст материала состоял из двух частей. Пространной речи М. С. Горбачёва и ответа Патриарха Пимена. Смысл речи М. С. Горбачева заключался в социально-политическом примирении с существованием религии, а Патриарха в поддержке политики перестройки [3; 4]. Дальнейшее позиционирование религии в положительном ключе в массовой и специализированной печати лишь возрастало.
В 1988 году главные центральные газеты «выдают» 35 публикаций о религии и церкви в «Известиях», 15 в «Правде» и 14 в «Советской России». В основном это были новостные перепечатки ТАСС о ходе празднования 1000-летия Крещения Руси. Малочисленность собственных, авторских материалов в богатый на тематические события 1988 год, свидетельствовало скорее всего о неожиданном для массовой печати повороте властей к религии.
Изменения в содержание антирелигиозной пропаганды требовалось «закрепить» в специализированном атеистическом журнале. Для этого в 1988 г. в журнале «Наука и религия» публикуется статья «Перестройка и атеизм». Показательно, что статья вышла совершенно безликой, однако там присутствовали выдержка из речи М. С. Горбачёва. Ре- дакционная статья от имени М. С. Горбачёв констатировала новую оценку верующих. «Все верующие, отмечалось в редакционной, не зависимо от того, какую религию они исповедуют, являются полноправными гражданами… сама жизнь, история объединяла верующих и не верующих» [2]. В материале, не смотря на упоминание ленинских принципов в отношении религии редакции журнала как от лица работников, антирелигиозной пропаганды, самой составляющей атеистических тезисов минимально. Дискурс статьи «утопил» инструментальную идею М. С. Горбачёва не просто о противоположности религиозного и материалистического мировоззрения, но и о пластичности этих концептов и необходимости стремиться к примирению и согласию.
Таким образом, выстраивание новой схемы взаимодействия власти, с религией происходило под давлением политики перестройки как демократизации. Совет по делам религии при Совете Министров СССР предлагал изменения более широкие, чем концепт А. Ф. Окулова, предлагавшего признать некоторые ошибки в реализации атеистической пропаганды что, по факту, было стандартным планом «совершенствования» атеистической работы. Несомненный плюсом, было апеллирование к очищению антирелигиозной пропаганды от наслоений прошлого. В тоже время план не имел радикальных действий, предлагаемых В. И. Гараджой. В этой парадигме власти не апеллировали к новым конструкциям напрямую, а прикрываясь непререкаемым авторитетом «ленинского наследия», как бы пыталась вернуть старую «правильную» и законную форму работы, нарушенную периодом «культа личности».
Список литературы Трансформация дискуссии об изменении антирелигиозной пропаганды в периодических изданиях (1985-1988 гг.)
- Беликова, Г. Несложившаяся жизнь /Г. Беликова // Наука и религия. — 1986. — № 1. — С. 22—23.
- Во имя реальной свободы // Наука и религия. — 1988. — № 9. — С. 2.
- Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и членами Синода Русской православной церкви / ТАСС // Известия. — 1988. — 1 мая.
- Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и членами Синода Русской православной церкви / ТАСС // Правда. — 1988. — 1 мая.
- Гараджа, В. И. Утверждая свободу совести / B. И. Гараджа // Советская Россия. — 1988. — 3 февр. — C. 6.
- Голубева, И. Костя, Света и другие /И. Голубева // Наука и религия. — 1986. — № 9. — С. 25—27.
- Икрамов, И. Между слишком простым и очень сложным / И. Икрамов // Наука и религия. —1987. — № 1. — С. 6—9.
- Калибанов, А. И. История и религия /А. И. Калибанов, Л. Н. Митрохин // Коммунист. — 1987. — Вып. 12. — С. 91—98.
- Крупнейшее достижение современной марксистко-ленинской мысли // Коммунист. — 1986. — Вып. 9. — С. 3—17.
- Кузьмина, Ю. В Ездоцкой слободе /Ю. Кузьмина // Наука и религия. — 1987. — № 3. — С. 10.
- Лифшиц, М. Нравственное значение Октябрьской революции. / М. Лифшиц // Коммунист. — 1985. — Вып. 4. — С. 40—52.
- Миловидова, Л. Город строит нас /Л. Миловидова, М. Каширин //Наука и религия. — 1987. — № 3. — С. 8.
- Муслимов, С. Присмотримся к себе по внимательно / С. Муслимов // Наука и религия. — 1988. — № 7. — С. 5—6.
- Никифорова, Б. Путешествие в летние дни молодёжи / Б. Никифорова // Наука и религия. — 1985. — № 5. — С. 20—23.
- Одинцов, М. И. Вероисповедальные реформы в Советском Союзе и России. 1985—1997 / М. И. Одинцов. —Москва: Российское объединение исследователей религии, 2010. — 444 с.
- Окулов, А. Ф. Веха духовной свободы /А. Окулов // Правда. — 1988. — 2 февр.. — С. 3.
- Пихоя, Р. Г. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия на изломе тысячелетий. 1985— 2005 / Р. Г. Пихоя. — Москва : Русь-Олимп : Астрель : АСТ, 2007. — 554 с.
- Савин, А. И. «Религиозная организация действует самовольно»: нелегальные молитвенные дома в поздне-советскую эпоху. / А. И. Савин // Вестник Пермского университета. Сер.: История. — 2019. — № 2 (45). — С. 109 —121.
- Сапрыкин, В. Верующие в современном городе / B. Сапрыкин // Наука и религия. — 1987. — № 2. — C. 6—9.
- Харчев, К. Перестройка наделила Церковь правами, а обязанностями не успела /К. Харчев //Независимая газета. — URL: http://www.ng.ru/ng_religii/2015-06-03/1_ perestroika.html (дата обращения: 8.01.2020).
- Харчев, К. Утверждая свободу совести / К. Харчев //Известия. — 1988. — 29 янв. — С. 3.
- Smolkin-Rothrock, V. The Ticket to the Soviet Soul: Science, Religion, and the Spiritual Crisis of Late Soviet Atheism / Victoria Smolkin-Rothrock//Russian Review. — 2014. — Vol. 73, No. 2 (April). Р. 171—197.