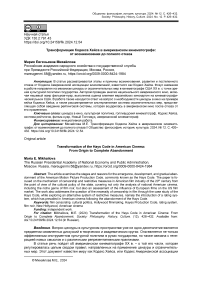Трансформация кодекса Хейса в американском кинематографе: от возникновения до полного отказа
Автор: Михайлова Мария Евгеньевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются этапы и причины возникновения, развития и постепенного отказа от Кодекса Американской ассоциации кинокомпаний, известного как Кодекс Хейса. Фокус внимания в работе направлен на механизм цензуры и ограничительных мер в кинематографе США XX в. с точки зрения культурной политики государства. Автором проведен анализ национального американского кино, включая нишевый жанр фильмов-нуар, выполнена оценка влияния европейских кинокартин на кинематографический рынок США. В работе также находится ответ на вопрос о необходимости цензуры в кино на примере кейса Кодекса Хейса, а также рассматривается альтернативная система ограничительных мер, представляющая собой введение рейтинговой системы, которая воцарилась в американском кино после отказа от его применения.
Цензура в кино, культурная политика, голливудский кинематограф, кодекс хейса, система рейтингов, фильм-нуар, новый голливуд, американский кинематограф
Короткий адрес: https://sciup.org/149146710
IDR: 149146710 | УДК: 130.2:791.43 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.54
Текст научной статьи Трансформация кодекса Хейса в американском кинематографе: от возникновения до полного отказа
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москва, Россия, ,
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia, ,
Введение . Вопрос цензуры в культурном пространстве уже не одно десятилетие является предметом оживленных дискуссий в творческих и академических кругах. Она является не только эффективным инструментом культурной политики в руках государства, но также связана с генерацией новых смыслов и с различными репрезентативными практиками.
В статье речь пойдет об американском кинематографе XX в. – о той его части, которая регулировалась целым сводом правил, направленных на применение цензуры и ограничительных мер. Этот документ известен миру как Кодекс Хейса, или Кодекс Американской ассоциации
кинокомпаний (Motion Pictures Production Code). Время расцвета «кодексового» кино принято считать «золотым веком» Голливуда. Данное исследование призвано раскрыть основные трансформационные этапы американской киноиндустрии XX в., долгое время считавшейся некоторым эталоном кинематографического искусства по всему миру.
Эпоха кино в Америке периода существования Кодекса Хейса пережила полный цикл от возникновения документа в 1930 г., развития, закрепления и последовавшего за этим угасания регламентированного цензурного механизма в пользу либерализации кино. Но с отказом от Кодекса Хейса, который являлся неким национальным стандартом нравственной цензурной политики, отреклась ли американская культура от «модерации» в области кинематографа? Приходя к ответу на этот вопрос, мы в первую очередь концентрируем свое внимание на причинах, вследствие которых Кодекс Хейса к 1960 гг. начинает себя изживать, а на его смену приходит новая концепция рейтинговой системы, которая уже в видоизмененном формате существует и по сей день.
Исследовательский интерес к выбранной теме обусловлен также тем, что цензура в Голливуде изучаемой эпохи значительно отличалась от, например, советской. Принципиальная разница состоит в том, что в СССР цензура исходила от государства, в то время как в Голливуде, который стал своего рода «фабрикой» кино, подобные инициативы являлись прерогативой студийных прокатчиков фильмов, то есть исходили изнутри индустрии.
Научная новизна статьи обеспечивается применением диахронического метода анализа, позволяющего выявить в исторической ретроперспективе основные этапы изучаемого процесса, структурировать его трансформационные повороты в соотнесении с социокультурной средой. В результате исследования были сделаны выводы, оценивающие эффективность цензурных ограничений в американской киноиндустрии изучаемого периода, а также проведены параллели с современными инструментами культурной политики США в области ограничительных мер в кинематографе.
История возникновения и развития Кодекса Хейса . В начале XX в. кинематограф как вид искусства все еще воспринимался как новаторский феномен. Производство фильмов обходилось сравнительно недорого, множество людей становились продюсерами. «Смелые» сюжеты пользовались наибольшим спросом, а моральная сторона сюжетно-визуальной составляющей картин в отсутствие контролирующих институций не поддавалась саморефлексии автора. Ситуация обусловила появление волны критики кино со стороны простых американцев, что в конечном итоге привело к появлению законодательной цензуры.
Принудительное регулирование кинопроцесса началось с появления в 1922 г. Ассоциации производителей и прокатчиков фильмов (The Motion Picture Producers and Distributors of America, Inc.), которая представляла собой объединенные силы продюсеров и дистрибьюторов, имеющих целью продвигать и защищать интересы производителей фильмов. Президентом ассоциации был назначен Уилл Харрисон Хейс. Среди первых мероприятий учрежденной ассоциации было изучение содержания фильмов. Незадолго до заметного перехода от немого к разговорному кино, произошедшему на рубеже середины 1920-х гг., руководителями ассоциации было согласовано решение о принятии резолюции о тщательном отборе книг и пьес в качестве материалов для экранизаций. Этой резолюции придерживались два года: с 1924 по 1926 гг. (Shurlock, 1947: 140).
Наиболее заметные перемены произошли уже с окончательным внедрением в индустрию разговорного кинематографа. Изначально в 1927 г. режиссеры приняли ряд общих предостережений для киноиндустрии, которые должны были стать своего рода дорожной картой для производства фильмов. Однако на практике эта идея носила довольно слабый консультативный характер. Тогда было принято решение создать более фундаментальный документ, который составлялся при участии деятелей из религиозных и научных сфер. Таким образом, в 1930 г. Ассоциация производителей и прокатчиков фильмов утвердила подготовленный кодекс. Согласно условиям его принятия, он стал обязательным для кинопроизводителей.
Основу документа составляла парадигма, ценности и приоритеты которой присутствуют в мировых религиях. Благодаря этой опоре, кодекс был ориентирован на «идеалы высшего типа». Основная сложность заключалась в том, что для его эффективного применения не было предусмотрено четкого алгоритма. Каждый продюсер сам становился арбитром для своего фильма, несмотря на то что комитет по связям с киностудиями продолжал функционировать, хоть и в качестве консультативного органа. Задача последнего заключалась в рассмотрении готового кинематографического продукта и составлении заключения о его соответствии кодексу. При возникновении ситуаций, когда готовый фильм в своем финальном варианте не отвечал основным принципам регламента, существовала возможность его переоценки в комитете продюсеров, в который входили эксперты, работавшие на других студийных площадках. Полномочия данного органа контроля включали в себя принятие финального решения по предоставленной картине. Такой многоуровневый подход к рассмотрению кажется вполне справедливым и правильным, однако и этот механизм обладал своими недостатками. Поскольку члены комитета находились внутри той же самой системы кинопроизводства, процедура апелляции не могла быть в полной мере независимой и не гарантировала беспристрастного рассмотрения картины, так как все члены комитета сталкивались с похожими проблемами для своих проектов, а подобный механизм требовал независимого анализа ситуации со стороны, некоторого «свежего взгляда» на вынесение окончательного решения (Shurlock, 1947: 140–141).
К 1934 г. Кодекс Хейса окончательно укрепился в индустрии и стал национальным стандартом морально-нравственной цензуры в кинематографе. Фильмы, снятые вне соблюдения основных положений кодекса, имели право на существование, однако их судьба была предопределена тем, что они практически не имели никакой возможности быть выпущенными на большие экраны для широкого круга зрителей. Общими принципами в данном документе являлись положения о запрете снижения моральных стандартов потенциальных реципиентов в кинолентах. Производители фильмов были также призваны стремиться к описанию правильных и общественно одобряемых стандартов жизни. Запрещалось в ироничной форме транслировать законотворческие процессы или показывать сочувствие к какому-либо нарушению закона (Biltereyst, Winkel, 2003: 2–3).
Примечательно, что, объясняя практическую значимость данного свода правил для кинематографистов, руководитель новой Администрации производственного кодекса (Production Code Administation), утвержденного в 1934 г., Джозеф Брин считал, что «Голливуд без кодекса просто не мог бы существовать. [...] За редким исключением, ни один фильм, снятый где бы то ни было, не может сравниться по художественности, зрелищности и красоте с фильмами, созданными в Голливуде и принесшими счастье и безмерную радость несметным миллионам людей во всем мире» (Doherty, 2007: 340). Именно с приходом Джозефа Брина в руководство Управления производственного кодекса была введена обязательная мера по получению сертификата соответствия перед допуском выхода картины. Тем самым ему было предоставлено право на внесение изменений в фильмы, равно как и на регулирование кинопроцесса введением штрафов, составлением списков с именами недостаточно добросовестных участников кинопроизводства.
Причины угасания кодекса . С конца 1940-х и в течение 1950-х гг. выверенный и исправно функционирующий проект Кодекса Хейса вступает в свой новый этап, который поставил под сомнение незыблемость и фундаментальность существующего цензурного аппарата. В этот период мы констатируем угасание значимости Кодекса Хейса вследствие того, что кинематографическая индустрия столкнулась с серьезными угрозами в виде конкуренции. В первую очередь перед американским кинематографом возникла проблема, истоком которой стала стремительная популяризация телевидения, представлявшего собой новую технологию, которая сделала кинематограф и развлекательный контент в целом более доступными для реципиента. Чтобы качественно провести свой досуг за потреблением контента, среднестатистическому американцу стало необязательно выходить из дома и тратить средства на посещение кинотеатра или других культурно-развлекательных учреждений. Чтобы востребованность голливудской киноиндустрии в ее классическом понимании оставалась на прежних позициях, перед производителями фильмов возникла задача привлечь зрителя таким продуктом, который невозможно было бы получить на телевизионных экранах. В подобной ситуации цензурный механизм также должен был быть подвергнут трансформационным изменениям. Ведь телевидение находилось в еще более строгих цензурных рамках, которые отличались от положений кодекса. Но не только оно было в тот период конкурентом для Голливуда.
В 1950-е гг. наплыв иностранных фильмов на американские экраны также обернулся значительными трудностями для индустрии. В прокате начали появляться такие кинокартины, как итальянский фильм «Похитители велосипедов» (1948) Витторио де Сика, работы шведского режиссера Ингмара Бергмана, фильмы французской «новой волны».
Одним из ярких примеров являются два фильма шведских режиссеров – «Она танцевала одно лето» (1951) Арне Маттсона и «Лето с Моникой» (1953) Ингмара Бергмана, которые были показаны в США в 1955 г. Примечательно, что популярность этих фильмов вызвала последующую волну распространения европейских кинокартин, носивших характер сексуально-провокационных. Некоторые британские фильмы, такие как «Жертва» (1961) Бэзила Дирдена и «Вкус меда» (1961) Тони Ричардсона вступали в противостояние с устоями голливудского производственного кодекса, бросая вызов традиционным гендерным ролям. Доступность подобных кинематографических продуктов для американцев ставила под сомнение необходимость существования Кодекса Хейса. Возможно, он мог бы видоизмениться и стать более гибким, однако этому не суждено было сбыться.
При упоминании о проникновении на американский кинорынок европейских кинокартин, важно обозначить, что это стало возможно вследствие отсутствия контроля над импортом фильмов. Иностранные образцы кино могли быть выпущены в американский прокат без одобрения администрации производственного кодекса вследствие того, что в нем не были закреплены положения о цензуре иностранных кинокартин – проект Кодекса Хейса был всецело направлен на национальный продукт.
Еще одной весомой причиной послужило то, что в период после Второй мировой войны возникла тенденция к постепенной и умеренной либерализации культуры в США в целом. Это имело под собой социокультурные причины усталости масс и стремления к чему-то новому в культурном поле, что неминуемо повлекло за собой значительные перемены.
Ограничения Национального легиона приличия, который, руководствуясь религиозными постулатами, противодействовал неприемлемому с точки зрения религии контенту в кинематографе, больше не имели былого влияния на коммерческий успех фильма. Голос этого моральнонравственного органа был в некоторой степени «заглушен», и его деятельность отошла на второй план. Вследствие этого сдвига множество положений Кодекса Хейса попросту утратили свой статус и влияние на индустрию и были видоизменены, о чем свидетельствует допуск в 1956 г. на экраны таких тем, как супружеская измена и проституция.
Примером может служить ремейк фильма «Анна Кристи», в котором главная героиня волею судеб становится проституткой, – был запрещен американской компанией Metro-Goldwyn-Mayer дважды, в 1940 и 1946 гг., поскольку проституция хоть и осуждается в фильме, однако не должна вызывать у зрителя сочувствие. К 1962 г. такая тематика стала допустимой, и оригинальный фильм получил одобрение (Schumach, 1975: 163–164).
Говоря о механизмах применения цензуры и ограничительных мер в голливудском кинематографе, следует признать, что, в целом, все введенные запреты являлись вполне очевидными и применимыми, однако справедливо возникает вопрос о том, как в этой парадигме был возможен стиль фильмов-нуар. Ведь в классике Голливуда к ним относились криминальные драмы 1940–1950-х гг. Для фильмов такого типа характерны пессимистические черты – отсутствие доверия, ощущение безнадежности и повсеместный цинизм. Однако наличие и востребованность подобных кинокартин на американском рынке сыграли значимую роль в ходе процесса либерализации кинематографа. Кроме того, этот стиль внес ряд смыслов в индустрию, которые повлияли на ее отказ от голливудского производственного кодекса.
Расцвет стиля нуар пришелся на кризисный период 1940-х гг. После Второй мировой войны смысловые ориентиры и ценности в обществе находились в стадии переоценки и не отличались стабильностью. В кинематографическом поле возник образ женщины-вамп, или femme fatale. Он довольно быстро набрал популярность вследствие того, что в социальном поле гендерные роли подверглись изменениям, а такие понятия, как маскулинность и male gaze в кинематографе, также нуждались в переосмыслении в эпоху военного и послевоенного времени. В этот период образ женщины начинает обретать новые формы – представительница прекрасного пола перестает играть единственную назначенную ей ранее роль домохозяйки и хранительницы домашнего очага. Эмансипация, провозглашающая отказ от устоявшейся нормы патриархального общества, в котором мужчина является неоспоримой доминантой, породила коллапс в сфере гендерной самоидентификации обоих полов. Эта трансформация, окутанная сомнениями и неустойчивостью порядка вещей, нашла свое воплощение в фильмах-нуар.
Однако женщина остается в какой-то степени зависимым персонажем. Здесь будет релевантным объяснить это с точки зрения противопоставления «мужского взгляда» позиции женщины в фильмах-нуар. Термин «мужской взгляд» был первоначально использован Лаурой Малви в ее статье «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф» (Mulvey, 1975), в которой исследователь утверждает существование несбалансированной гендерной динамики в фильмах, когда активный мужчина объективирует пассивную женщину через взгляд.
Из-за присутствия патриархальной культуры в индустрии кино мейнстримные фильмы демонстрируют определенную модель при представлении мужских и женских персонажей. Мужчина обладает властью в повествовании, он управляет кинофантазией и является носителем взгляда, история вращается вокруг него и его действий. Будучи представленным в качестве сексуального объекта, женский персонаж формируется в соответствии с мужскими визуальными удовольствиями и фантазиями, что заставляет его работать против развития сюжетной линии. В фильмах-нуар зависимость женщины проявляется в том, что использование ее сексуальности сохраняется и она не перестает объективироваться мужчиной. Разница с кинокартинами других стилей заключается в том, что здесь женщина достигает своих целей и доминирует над мужчиной при помощи своей сексуальности. Однако развязка сюжета неминуемо связывается с тем, что женский персонаж в картине недолго занимает свои господствующие позиции – героиню ждет возмездие. Все это коррелируется с положениями, закрепленными в кодексе Хейса. По сути, поступки, совершаемые героями фильмов-нуар, являются аморальными, а это значит, что те персонажи, которые противопоставляют себя закрепленным законом ценностям, неминуемо должны быть наказаны.
С постепенным выходом страны из экономического кризиса, фильмы-нуар теряют былую востребованность, их производство значительно сокращается. Однако существование этого стиля обострило вопрос равенства полов и также оказало влияние на мировосприятие зрителей, что в долгосрочной перспективе повлияло на пересмотр положений производственного кодекса и в целом на смену ценностных ориентиров в индустрии.
Отказ от Кодекса Хейса и переход к системе рейтингов . По причине того, что зарегулированная отрасль американского кинематографа начала устаревать, в 1960-е гг. Голливуд столкнулся с кризисом, который сопровождался резким снижением производства. На фоне общего экономического роста США в этот период начинается бурный рост числа независимых кинокомпаний и малобюджетного кинематографа. Этот аспект интересен с той точки зрения, что подобный процесс, несмотря на свои несовершенства в виде отсутствия собственного механизма проката, был нацелен целиком на поиск и удовлетворение чаяний «своего» зрителя.
Устаревшие черты театральности и искусственности в старом голливудском кино постепенно отмирают, освобождая пространство для реализма, трансформации укоренившихся морально-нравственных норм, а также элементов контркультуры, возникновение которой сопровождается появлением андеграундных черт, таких как протест, рок-музыка и свободный образ жизни. Эта трансформация обусловлена сформировавшейся потребностью отказаться от сложившегося голливудского киноязыка, привычных форм линейного повествования. В связи с этим возникает модель альтернативного поведения и новые герои. Персонажи в фильмах больше не должны играть роль этических идеалов и обладать исключительно гипертрофированно-положительными или осуждающе-негативными чертами. Кинематографическая революция данного периода в США оказалась как нельзя кстати, идеологически отражая народные настроения и мировосприятие масс. Это объясняется в том числе взглядами молодого поколения, которое мобилизовывалось в протестные движения. Своего пика настроения в защиту гражданских прав негров, демонстрации протеста против войны во Вьетнаме и «студенческой революции» достигают в 1960-х гг. (Коростелёва, 2002: 75–76).
Контркультурные эксперименты породили переоценку устоявшихся традиций в американском кино. Это говорит нам о том, что режиссеры начинают преследовать цель соответствия ожиданиям молодой аудитории, так как за ней кинопроизводители справедливо видят будущее. В соответствии с этим производители кинокартин следуют за социально-политическим контекстом, и ярким примером этого служит фильм Артура Пенна «Бонни и Клайд» (1967), в котором главные герои предстают не как преступники, а как жертвы полицейского произвола. В актуальном тогда историческом контексте протестов против войны во Вьетнаме уклонение от требований органов правопорядка романтизировалось молодежью, поэтому эта кинокартина имела успех среди молодых людей (Разлогов, 2013).
Такой же эффект на зрителей произвела гангстерская трилогия Фрэнсиса Копполы «Крестный отец», в которой образы главных героев также поддаются романтизации в силу кризиса организованной преступности в США того периода.
Все это свидетельствует о периоде неопределенности в зародившейся эпохе «Нового Голливуда», об экспериментах и поисках в кинематографической среде, где происходит зарождение авторского независимого кино. Кинематограф начинает обретать свободу, переосмысляются постулаты массовости данного вида искусства.
Угасание производственного кодекса происходило вплоть 1968 г. и сопровождалось его минимальным соблюдением в течение последних пяти лет существования. Это было вызвано административными перестановками в связи со смертью президента ассоциации и компаний Эрика Джонстона в 1963 г. В индустрии возникла борьба за власть между двумя фракциями, в итоге контроль перешел к либерально настроенным деятелям индустрии. Новым главой ассоциации стал Джек Валенти, который был противником Кодекса Хейса и, вступив в свои полномочия, начал разработку рейтинговой системы оценки фильмов.
В тот период цензурные ограничения были заметно ослаблены. В 1966 г. произошло два компромиссных одобрения кинокартин, которые изначально не вписывались в положения производственного кодекса: это фильмы «Кто боится Вирджинии Вулф?» режиссера Майка Николса и «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони. В случае с первым фильмом компромисс были достигнут вследствие редактирования откровенных реплик героев, что позволило выпустить картину на большие экраны. Примечательно, что это был первый фильм, который вышел с пометкой «Предназначено для зрелой аудитории» (SMA) (Leff, Simmons, 2013: 283–292).
Фильм «Фотоувеличение» был снят в Великобритании при финансовой поддержке США и изначально не получил одобрения со стороны цензурной комиссии за большое количество откровенных сцен. Этот случай уникален тем, что картина была выпущена кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer под специально созданным псевдонимом без сертификата одобрения. В тот момент кодекс был уже значительно сокращен и обладал примечанием, которое гласило, что действительно стоящая работа могла быть выпущена в соответствии с актуальными на тот момент социально-общественными стандартами. Однако такая работа должна была иметь обязательную маркировку «для взрослой аудитории» (Leff, Simmons, 2001: 286–287).
Отмена Кодекса Хейса повлекла за собой более детальную разработку рейтинговой системы в кинематографе. Она вступила в силу в полной мере 01 ноября 1968 г. и в течение первых лет включала в себя четыре уровня маркировки для кинокартин:
-
1. «G» – для общего показа, то есть для лиц всех возрастов.
-
2. «M» – для аудитории совершеннолетних зрителей, посещение сеансов детьми было возможно по усмотрению родителей;
-
3. «R» – для ограниченного показа, то есть до 16 лет просмотр был возможен в сопровождении родителей или взрослых опекунов;
-
4. «X» – лица младше 16 лет не допускаются к просмотру (Kennedy, 2014: 183).
Позднее эта система несколько раз видоизменялась, совершенствовалась, уровни маркировки фильмов актуализировались в соответствии с запросами современности. Таким образом, рейтинговая система справилась со своей основной задачей, которая заключалась в том, чтобы удовлетворить потребности трех основных акторов: кинопроизводителей, государства и зрителей: рейтинги, опираясь на государственный законодательный ландшафт, сумели расширить возможности аудитории и предоставить кинематографу справедливую уравновешенную систему контроля.
Заключение . Описанный путь, проделанный Кодексом Хейса в течение почти сорока лет, позволяет посмотреть на американскую кинематографическую цензуру с нескольких сторон.
Во-первых, рассматривая кейс США, становится очевидным, что ограничения в кино необходимы, так как кинематограф, в силу присущих ему черт современности, динамичности и способности встраиваться в актуальный социальный контекст, должен поддаваться регуляции. Однако в условиях глобализации и наводнения кинематографического рынка отдельной страны не только картинами национального производства, важно учитывать ценз на любые фильмы, которые попадают на потребительский рынок. В противном случае система ограничительных мер становится неэффективной и теряет свою значимость, а также может оказать негативное влияние на кинематограф, производимый внутри страны.
Во-вторых, природа ограничительных мер должна быть гибкой для того, чтобы свобода творческого самовыражения автора не была заключена в жесткие рамки, а поддавалась рефлексии и действиям в соответствии с некоторыми обозначенными нормами. Сам аппарат ограничительных мер должен учитывать большое количество аспектов, опираясь на запросы аудитории, социальный и политический климат, а также находить баланс между традициями и инновациями, идя в ногу со временем.
Несмотря на эти выводы, критиковать существовавший в XX в. Кодекс Хейса довольно опрометчиво, так как именно такая политика Америки в сфере кинематографа подарила миру целую индустрию, на опыт которой ориентировались производители кино во всем мире, и именно эпоха Кодекса Хейса называется «золотым веком» Голливуда.
Список литературы Трансформация кодекса Хейса в американском кинематографе: от возникновения до полного отказа
- Коростелёва Д. Культура молодежного протеста и американский кинематограф. 1960-1970-е годы // Киноведческие записки. 2002. № 60. С. 73-90.
- Разлогов К.Э. Мировое кино. История искусства экрана. М., 2013. 688 с.
- Biltereyst D., Winkel R.V. Silencing Cinema: Film Censorship around the World. N. Y., 2013. 321 р. https://doi.org/10.1057/-9781137061980.
- Doherty T. Hollywood's Censor: Joseph I. Breen and The Production Code Administration. N. Y., 2007. 440 p. https://doi.org/-10.7312/dohe14358.
- Kennedy M. Roadshow!: The Fall of Film Musicals in the 1960s. Oxford, 2014. 307 р. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199925674.001.0001.
- Leff L.J., Simmons J.L. The Dame in the Kimono: Hollywood, Censorship, and the Production Code. Kentucky, 2013. 350 р.
- Mulvey L. Visual Pleasure and Narrative Cinema // Feminisms. N. Y., 1975. Р. 6-18. https://doi.org/10.1007/978-1-349-14428-0_27.
- Schumach M. The Face on the Cutting Room Floor: the Story of Movie and Television Censorship. New York, 1975. 384 р.
- Shurlock G. The Motion Picture Production Code // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1947. Vol. 254, iss. 1. P. 140-146. https://doi.org/10.1177/000271624725400122.