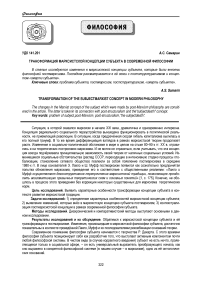Трансформация марксистской концепции субъекта в современной философии
Автор: Самарин А.С.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются изменения в марксистской концепции субъекта, которые были внесены философией постмарксизма. Последняя рассматривается в её связи с постструктурализмом и концептом «смерти субъекта».
Проблема субъекта, постмарксизм, постструктурализм, "смерть субъекта"
Короткий адрес: https://sciup.org/14082818
IDR: 14082818 | УДК: 141.201
Текст научной статьи Трансформация марксистской концепции субъекта в современной философии
Современное понимание философии субъекта начинается с творчества Р. Декарта. С этого времени философия субъекта позиционирует себя как разработчик того, что выступает активным компонентом почти любой философской системы. В чистом виде (в случае корректного введения) субъект не есть нечто, проявляющееся только в социальной сфере, – он есть универсальный выразитель преобразующего начала, как оно выражено в конкретной философской системе (в нашем случае – в марксизме), одно из её онтологических оснований.
В чём сложность марксистской концепции субъекта и её характерные особенности? Материалистическое понимание истории, на которое опирался К. Маркс, и приоритет труда, практики предписывали зависимость теоретических построений от объективных социальных обстоятельств. Ввиду этого субъект, который возможно реконструировать в марксизме, всегда есть нечто конкретное (согласно пониманию этого термина в методе восхождения от абстрактного к конкретному) и должен рассматриваться во всём многообразии связей с обусловливающими его объективными обстоятельствами, а также в исторической динамике.
В марксистской концепции субъекта был введён очень важный аспект: понимание труда (связующего звена между субъектом и объектом) как явления всеобщего, несводимого к труду отдельных индивидов. В политической плоскости это отражало актуальное для времени Маркса и бывшее актуальным до конца XX века понимание политической партии как коллективного субъекта социальных изменений. Славой Жижек, представитель постмарксизма, нередко упоминает о роли КПСС, рассматривая её именно в таком контексте: партия выступает в роли Большого Другого (термин Жака Лакана, обозначающий трансцендентную по отношению к субъекту сущность, которая в то же время выступает концентратом его активности) , на которого в случае необходимости можно свалить вину и потому никто не чувствует реальной ответственности [2, с. 70]. Впоследствии базовая марксистская концепция подвергалась разнообразным внешним изменениям, улучшениям, корректировкам – в ортодоксальном марксизме конца XIX века, в советском марксизме, в неомарксизме Франкфуртской школы и т.д. Внёс свой существенный вклад и постмарксизм.
Каковы были изменения, которые внёс в марксистскую философию субъекта постмарксизм? Прежде всего, следует сказать о том, какой теоретический концепт более всего повлиял на характерные особенности понимания субъекта в постмарксизме. Таким философским событием стал принцип «теоретического антигуманизма», провозглашённый Л. Альтюссером. Его суть заключалась в переворачивании причин и следствий в отношении анализа социального целого: человек выступал как результат теоретической деятельности, а не исходный пункт. Вследствие этого мы не можем использовать концепт человека для объяснения социального целого.
Затем этот принцип был подхвачен и развит постструктурализмом в тезисе о «смерти субъекта». Это означало, что в изменившихся социально-исторических обстоятельствах мы более не можем говорить о субъекте как о целостном явлении, которое поддаётся чёткой локализации и обладает достаточной степенью автономности для того, чтобы было возможно отграничить и противопоставить его объекту.
Итак, в ситуации «смерти субъекта» мы не можем более говорить о классической схеме автономного самосознания. Постмарксизм разделил принцип «смерти субъекта» и отталкивался от него в построении своей теории. Обозначив как цель реактуализацию марксизма в условиях конца XX века [3], Э. Лакло и Ш. Муфф пришли к пониманию необходимости диалога с господствующими концепциями и тенденциями современной философии. Это понимание было достигнуто ввиду определённых внешних и внутренних причин.
В качестве внешней причины можно выделить влияние тезиса о «смерти субъекта». Вопрос принятия этого тезиса, или, хотя бы осуществления рефлексии по его поводу, был вопросом принятия постмарксизма как дееспособной концепции в рамках дискурса современности. Внутренней причиной было то, что интенция к «смерти субъекта» уже заключалась в философии марксизма в виде принципа теоретического антигуманизма Л. Альтюссера.
На смену автономному субъекту приходит то, что мы назвали бы «субъектной позицией». Образно говоря, если представить социокультурную целостность как море-объект, то в качестве субъектной позиции будут выступать изредка появляющиеся на его поверхности острова – суша, на которой может случайным образом оказаться «вставший над ситуацией» индивид.
Очень важной для исторического развития марксизма переменой была произведённая в постмарксизме смена локализации активности субъекта. В традиционном марксизме это была однозначно интерпретированная сфера экономики. В постмарксизме провозглашается приоритет дискурсивных практик, которые понимаются как расширение сферы политического.
При этом можно заметить, что, отказавшись от субъекта как монады с жёстко заданными границами, постмарксизм резко расширил сферу субъективного, или, корректнее сказать, потенциал субъективации. В какой-то степени постмарксизм выступает как отступление от марксистской традиции, потому что представленная в нём концепция явным образом сближается с классическим (декартовским) взглядом на пределы творческой активности субъекта как приоритета теории над практикой.
Господствующая концепция рассматривает политическую плоскость социального бытия исключительно как поле реформ, без претензий на революцию. Можно проследить связь с более общей в отношении социально-политических обстоятельств последних десятилетий тенденцией. Это тенденция рассмотрения капитализма как безальтернативной теории в плоскости экономики, которая уверенно преодолела свою экономическую локализацию и приступила к освоению новых культурных горизонтов.
Отметим при этом, что в некоторых аспектах постмарксизм значительно расширил марксистскую теорию. В частности, переформатирование автономного субъекта классического марксизма в субъектную позицию позволило расширить границы потенциальной активности субъекта до сферы всего социального бытия, в то время как в классическом марксизме был ярко выраженный экономический детерминизм.
Одним из важнейших нововведений в концепцию субъекта, которую произвёл постмарксизм, было включение его в поле дискурса. В марксизме субъект традиционно выступал как опосредующее звено между теорией и практикой. Ключевая для марксизма связь теоретических положений и их практической реализации с приоритетом второй подверглась эрозии в первой половине XX века, когда наличные социальные обстоятельства резко разошлись с теоретическими основоположениями [4, с. 16]. Неомарксизм, а впоследствии и постмарксизм, предложили выход из ситуации.
Он заключался в том, чтобы изменить понимание социальной практики. Понимание практики как критерия истины последовательно объяло область культуры, а в постмарксизме – сферу коммуникации, дискурса. Субъект, понятый как элемент дискурсивных практик, органично вписал постмарксизм в диалог концепций, имеющий место быть в современности.
Постмарксизм терминологически («по определению») связан с концептом постструктурализма и наследует и его характерные особенности. Изнутри постмодернизм позиционируется в довольно характерной для западноевропейской философии последних веков манере как радикальный разрыв с прошлым, с классикой. Извне он представляет собой межеумочное явление, состояние «между», когда прежняя традиция уже сошла, а новая ещё не народилась.
В контексте развития марксистской теории постмарксизм логичным образом занимает то же самое положение «между» – после завершения проекта альтернативного капитализму социально-экономического строя (распад СССР в 1991 г.) марксизм вступает в своё состояние «пост-», для которого характерна потребность в переосмыслении базовых оснований теории в ситуации, когда практическая реализация её принципов затруднена объективными обстоятельствами.
Постмарксизм в данном отношении выступает органическим продолжением марксизма, а представленная в нём концепция субъекта выступает как гибридная конструкция, заимствующая положения конкурирующих теорий (прежде всего, постструктурализма и психоаналитической философии) с двумя равноправными целями: 1) обогащения собственной теории; 2) налаживания диалога с концептуальными противниками. «Политика» постмарксизма в дискурсивном поле соответствует критериям современности и отличается направленностью на компромиссное разрешение теоретических противоречий.
Помимо этого, можно выделить ряд замечаний касательно того, что изменилось внутри марксистской теории после изменений, которые были спровоцированы постмарксизмом. Интенсивное взаимодействие с постструктурализмом привело к тому, что была переосмыслена своеобразная марксистская «эсхатология»: идея насильственного приведения марксистских принципов в жизнь путём участия в политической борьбе обогатилась пониманием важности кардинальных перемен в культурной сфере жизни общества.
Заключение . Следует отметить, что постмарксизм, совершив ряд реформ в понимании концепции субъекта и в области оснований марксистской теории в целом, выступил и в роли скептика, поставившего под сомнение принципы, на которых ранее базировался марксизм. Естественно, подобную работу осуществляло любое предшествующее ответвление марксизма. Отличительная особенность постмарксизма в том, что, следуя в русле современности, он проработал критические моменты и болевые точки предшествующего витка развития марксизма, но не предложил целостного проекта социальной реальности. Вероятно, эту роль возьмёт на себя следующий правопреемник философии марксизма.