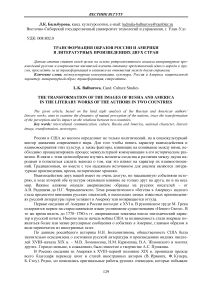Трансформация образов России и Америки в литературных произведениях двух стран
Автор: Бальбурова Л.К.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 4 (49), 2014 года.
Бесплатный доступ
Данная статья ставит своей целью на основе ретроспективного анализа литературных произведений русских и американских писателей изучить динамику представлений одного народа о другом, проследить за их трансформацией и влиянием на отношения между двумя странами.
Межкультурная коммуникация, культура, Россия и америка, национальный характер, литературный образ, трансформация, стереотипы
Короткий адрес: https://sciup.org/142142899
IDR: 142142899 | УДК: 008:802.0
Текст научной статьи Трансформация образов России и Америки в литературных произведениях двух стран
Россия и США во многом определяют не только политический, но и социокультурный вектор движения современного мира. Для того чтобы понять характер взаимодействия и взаимовосприятия этих культур, а также факторы, влияющие на понимание между ними, необходимо проанализировать процесс межкультурной коммуникации в его историческом развитии. В связи с этим целесообразно изучить моменты сходства и различия между двумя народами и попытаться сделать выводы о том, как это влияет на характер их взаимоотношений. Традиционным, но вместе с тем надежным источником для анализа являются литературные произведения, пресса, исторические хроники.
Взаимодействие двух наций имеет не очень долгую, но насыщенную событиями историю, в ходе которой обе культуры оказывали влияние не только друг на друга, но и на весь мир. Важное влияние оказали американские образцы на русских писателей от А.Н. Радищева до Н.Г. Чернышевского. Тема романтического «бегства в Америку» надолго стала предметом внимания русских писателей, в нескольких самых известных произведениях русской литературы герои уезжают в Америку или возвращаются оттуда.
Первые сведения об Америке в России восходят к ХVI в. В рукописном труде М. Грека содержится первое на старославянском языке упоминание существования «Нового Света». В то же время вплоть до 1770 1780-х гг. американская тематика имела эпизодический характер в русской печати. Именно после начала войны США за независимость стали впервые появляться более или менее регулярные сообщения о событиях в Америке, главным образом в виде перепечаток из иностранных газет.
По данным российского историка Н.Н. Болховитинова, общественность США была значительно осведомлена о состоянии русской литературы и произведениях видных писателей XVIII начала XIX в. М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского и многих других. Гораздо меньше, к сожалению, было известно о творчестве А.С. Пушкина.
В Россию сведения из Америки в XVIII–первой половине XIX в. проникали прежде всего благодаря переводу книг и статей иностранных авторов (В. Ирвинга, Ф. Купера, Б. Стоу). Редко, но появлялись оригинальные работы русских очевидцев, которые побывали в США и познакомились с жизнью американцев (П.П. Свиньин, Ф.В. Каржавин, П.И. Поле-тика, П.А. Чихачев и др.), на основе их свидетельств в России складывался свой собственный образ Америки. По мнению П.И. Полетики, жители США «наблюдают мало меры в похвалах, коими они превозносят себя при всяком случае», и убеждены, что они «просвещеннейший и добродетельнейший народ на земном шаре» [3].
Описывая «трудолюбивый, неутомимый и смелый народ американский», ученый-географ П.А. Чихачев, посетивший разные части страны с 1833 по 1838 г., указывал, что страсть к богатству и дух предприимчивости служат ему путеводителями. Он также одним из первых отметил сходство двух народов, основанное на прочности коренных начал.
Несмотря на важность этих наблюдений, в целом осведомленность русского общества о США вплоть до второй половины XIX в. не следует преувеличивать. По свидетельству Н.А. Добролюбова, набор стереотипных фраз об Америке большинства произведений ограничивался несколькими предложениями вроде: «Америка - страна купцов, страна материальных удобств жизни», «Американцы - народ очень практичный, деньги для них все». Обращалось внимание также на наличие в США демократических учреждений и полную свободу каждой личности, не включая женщин, и, конечно, существование рабства негров, невольничества.
Период с середины 1850-х до начала 1880-х гг. занимает особое место в истории русско-американских отношений. В Америке кульминацией этого периода являются Гражданская война и отмена рабства, в России - отмена крепостного права и другие либеральные реформы. Гражданская война в Америке вызвала сосредоточенный и очень пристрастный интерес в России, в конфликте между Севером и Югом решительно поддержавшей Американский союз.
Идея об общности судеб двух стран получала все большее распространение. Тема американского рабства, которое давно, начиная с Радищева, сравнивали с русским крепостничеством, была традиционной для русских мыслителей. В американских публикациях также проводилась подобная параллель. Особой популярностью в связи с этим пользовались произведения И.С. Тургенева, оказавшего большое влияние на творчество многих американских писателей. Дж. Рид проводил параллель между «Хижиной дяди Тома» Г. Бичер-Стоу и тургеневскими «Записками охотника». Согласно воспоминаниям американского писателя У.Д. Хоуэллса, в те годы все молодые американские писатели зачитывались Тургеневым, который открыл им новый мир - неповторимый мир реальности. Сам И. Тургенев, имевший в русских литературных кругах прозвище «американец» за свои демократические тенденции и симпатию к США, живо интересовался Америкой и мечтал нанести визит в Новый Свет, который, по его мнению, для Старого Света является тем, что будущее для настоящего или Прошедшего. Это желание Тургенева осталось невыполненным, но отразилось в его произведениях. Так, в финале «Вешних вод» герой продает все свое имение и собирается в Америку.
Наряду с такой традиционной темой, как рабство в Америке, пристальное внимание в русском обществе неизменно уделялось техническим достижениям американцев. Позднее подобный энтузиазм по поводу американского технического гения стал одним из ведущих акцентов в восприятии Америки в советский период.
С точки зрения культурологического анализа, мы определяем данный период в российско-американских отношениях как переломный, так как именно во второй половине XIX в. контакты между двумя народами с межгосударственного уровня коммуникации распространяются на уровень общения между отдельными индивидуумами, представителями двух культур. Об этом свидетельствуют резкое возрастание количества путешественников из Америки в Россию, рост числа публикаций на основе впечатлений о России, дружеский тон «русских» тем в американской прессе.
Именно во второй половине XIX в. в американском обществе шло активное формирование представлений о России, складывался тот образ страны и ее народа, который во многих своих чертах остался неизменным и по сей день, несмотря на кардинальные перемены в жизни обеих стран. В этот период «сердечного согласия» дружеское отношение американцев к России породило интерес, желание узнать и понять русскую культуру. Источниками были как дневники, воспоминания американских путешественников по России, так и материалы прессы, которая во второй половине XIX в. переживала небывалый подъем. Отличительной особенностью этих информационных источников является то, что они не только отражали представления о России и русских, но и оказывали определяющее влияние на укрепление, формирование и распространение стереотипов, что редко давало подлинное понимание русской культуры и ее особенностей. Особо хочется подчеркнуть устойчивость сложившихся в те годы представлений. Так, религиозность русских, воспринимавшаяся как проявление святости, с изменением отношения превратилась в фанатизм, верность традициям в консерватизм, героизм в агрессивность и т. д. Знаки поменялись, но содержание осталось прежним.
Кроме того, сопоставление тех или иных явлений русской жизни с американскими реалиями чаще всего использовалось американскими авторами для того, чтобы продемонстрировать преимущества своего образа жизни. Американцы, в целом равнодушные к внешнему миру, в период заграничных путешествий были больше сосредоточены на себе, на своих проблемах, чем на других народах. С одной стороны, это объяснялось тем, что восприятие другой культуры всегда идет через призму своих национальных ценностей и характера. С другой стороны, период после Гражданской войны характеризовался попытками национального самоопределения, стремлением выявить свое положение в кругу других народов. Исходя из этого, внешний мир играл важную роль, прежде всего для самоидентификации американцев.
Сближению двух культур способствовали и определившиеся к концу XIX в. общие черты. В 1881 г. американский поэт У. Уитмен писал в предисловии к русскому изданию своей книги «Листья травы», ставшем известным, как «Письмо к русскому»: «Вы русские, и мы американцы. Наши страны, настолько далекие друг от друга, настолько непохожие на первый взгляд <...> и в то же время столь похожи друг на друга с точки зрения определенных свойств, к тому же весьма существенных…» [11].
Памятниками американской теме стали главные русские тексты второй половины XIХ в. «Что делать?» Чернышевского и «Бесы» Достоевского. В обоих романах Америка играет важную роль: место, о котором мечтают, куда исчезают и откуда возвращаются главные действующие герои. Авторы отразили два основных подхода к восприятию Америки русскими: Чернышевский в своих героях, Лопухове и Рахметове, изображает поездку в Америку как средство решения главных русских проблем, Достоевский в Шатове и Кириллове показывает смертельную опасность Америки для русского человека. Влияние, которое эти романы оказали на новое поколение, привело к тому, что тема романтического бегства в Америку надолго стала предметом внимания современников.
В то же время различия в жизненных ценностях заметны уже тогда. Для русского человека, с его привязанностью к месту рождения, не понятен девиз американцев – «где хорошо, там и родина» (uni bene, ibi patria). В эпилоге «Братьев Карамазовых», рассуждая о бегстве в Америку после жестокого судебного приговора, Митя говорит: «И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие, <...>, не мои они люди, не моей души!» [4]. Герою Достоевского непонятен и неприемлем мир, в котором разрыв с прошлым оправдывается и воспринимается как необходимый людьми, у которых за плечами личный или наследственный опыт миграции.
К концу XIX в. Америка перестала быть мечтой и образцом для революционно настроенного русского общества. За Гражданской войной последовал экономический бум, который превратил США в лидера мирового капитализма. Для многих русских писателей ХIX в. Америка стала символом краха жизненных и нравственных устоев.
Февральская революция 1917 г. вызвала новый колоссальный взрыв интереса и любви американцев к России. Период с февраля по октябрь 1917 г. связан с большими надеждами и до сих пор считается высшей точкой отношений России и Америки за всю их историю. После октября 1917 г. наступило большое разочарование, что Россия не стала демократической.
Начало ХХ в., хотя и принесло огромное увеличение информации о жизни в обеих странах, не улучшило осведомленность россиян и американцев друг о друге, так как между СССР и США не было официальных связей. Поэтому, как и раньше, наибольшее влияние на общественное мнение продолжали оказывать писатели.
Доминирование американской темы в литературе раннего советского периода несколько загадочно. Вместе с тем этому есть объяснение. 1910-начало 1920-х гг. в России были отмечены поисками новой идентичности, собственная культура начинала восприниматься как временная видимость, которой не хватает положительных образцов, культура Другого как реальность. Новые образы искали везде, в том числе и за океаном. В 1913 г. А. Блок мечтал о том, как «убогая, финская Русь» превратится в «новую Америку» [2].
Среди русских писателей, посетивших США в первой половине ХХ в. - М. Горький (1906), С. Есенин (1922), В. Маяковский (1925), И. Ильф и Е. Петров (1936) и др. Из американских писателей, посетивших СССР, - Т. Драйзер (1927-1928), Дж. Рид (1917-1920), Э. Уилсон (1935) и др. Необходимо отметить, что американские рассказы о России часто были менее критичными, чем русские рассказы об Америке.
По мнению многих современников, одной из лучших в СССР книг об Америке, вышедших до войны, была книга И. Ильфа и Е. Петрова «Одноэтажная Америка» (1937). Описывая Америку с доброжелательной иронией, авторы вместе с тем обращают внимание на сильные, привлекательные стороны американской культуры, такие как трудовая этика, в частности, нормы в отношениях между начальниками и подчиненными. «В американской жизни есть явление, которое должно заинтересовать нас не меньше, чем новая модель какой -нибудь машины. Явление это - демократизм в отношениях между людьми. <...> Внешние формы такого демократизма великолепны. Они очень помогают в работе <...> и подымают достоинство человека» [5].
Главное из наблюдений Т. Драйзера, посетившего Россию в 1927-1928 гг., в области национального темперамента русских - то, что те готовы часами вести интеллектуальные разговоры, но не интересуются практическими темами, а американцы - наоборот. Это, по мнению писателя, может помешать революционным планам преобразования России: «они говорят слишком много и делают слишком мало» [9]. Разницу в темпераментах Драйзер объясняет традиционным для западного наблюдателя выводом об ориентальности русских: русский не американец, он даже не европеец, по темпераменту это полуазиат .
Восприятие России как азиатской страны формировалось многими источниками, включая избранные произведения русской литературы. Восточные черты характера чужды и непонятны западному наблюдателю. Об этом пишет Э. Уилсон, литературный критик и писатель, посетивший страну в 1930-е гг: «Русские не расположены к точности, окончательности. <...> Они никогда ничего не делают сразу. Более того, им свойственно восточное нежелание говорить что-либо, что разочарует собеседника» [10]. Итоговой была идея о неготовности российского общества к демократии, что, по сути, оправдывало необходимость жесткой власти как главного условия поддержания порядка и спокойствия в стране.
На рубеже 1930-х гг. интегрирующими элементами, которые объединяли два народа и находились вне идеологии, были стремление покорить природу, поклонение высокой технике, рациональной организации, большим масштабам. Русские цели ускоренной модернизации были понятны индустриальной Америке и обещали ей новые рынки. Понимание фундаментальных различий в ценностях, стоявших за сходными целями и масштабами, приходило постепенно.
В России технические достижения ценили больше экономических, в США - наоборот. И. Ильф и Е. Петров отмечали, что в разных культурах одного и того же человека ценят по -разному. В «Одноэтажной Америке» гид-американец говорит: «В вашей стране знаменит совсем другой Форд. У вас знаменит Форд - механик, у нас Форд - удачливый купец» [5]. Америка продолжала верить в соревнование между личностями, а не между техническими проектами.
В последующие десятилетия российско-американские отношения испытывали на себе влияние международной обстановки, периодов временного смягчения или роста напряженности межгосударственных отношений. В большинстве книг о России, опубликованных в США после Второй мировой войны, стали преобладать только черные краски. Характерна в связи с этим переоценка восприятия американцами отдельных черт национального характера русских. Американский исследователь Г. Аллпорт проследил эволюцию образа русского во время Второй мировой войны и после начала холодной войны. Результаты его опроса показали, что «согласно общественному мнению относительно русских, бытовавшему в годы войны, когда СССР и Соединенные Штаты были союзниками, они слыли прямолинейными, храбрыми и патриотичными. В течение нескольких лет все изменилось, и их стали считать примитивными, агрессивными и фанатичными» [8].
Подобное переосмысление встречается не в первый раз в истории взаимоотношений двух культур. Так, например, политическая и моральная поддержка президента Линкольна российским правительством выразилась в направлении в 1863-1864 гг. русской военноморской экспедиции в порты Нью-Йорка и Сан-Франциско. На протяжении многих десятилетий эти акции фигурировали как свидетельства дружественных взаимоотношений между двумя странами. Ссылки на них делались при возникновении необходимости подчеркнуть традиционно доброжелательные отношения между двумя народами. В годы холодной войны получила распространение версия о том, что Россия вовсе не собиралась поддерживать США, а пыталась спасти корабли от блокады английским флотом в Балтийском море, и именно Соединенные Штаты проявили свое дружелюбие к русским, согласившись принять у себя в нейтральных портах обреченные на гибель российские корабли.
Интересный исторический пример приводит А. Павловская: в 1860-1870-е гг., в пору наивысшего расцвета дружбы между народами России и Америки, даже самодержавная система воспринималась демократическими американцами вполне снисходительно, как естественная и необходимая для России. С изменением международной ситуации она в кратчайший срок трансформировалась в общественном сознании американцев в диктатуру, произвол и тиранию. Автор делает вывод, что, несмотря на изменение отношения к восприятию тех или иных черт, само восприятие остается неизменным. В данном случае система воспринимается одинаково как деспотическая только в первом случае ей находят оправдания, а во втором нет пощады [6]. Аналогичную трансформацию образа Америки мы наблюдали в российском обществе в конце 1990-х гг.
В годы холодной войны сложилось недоброжелательное отношение к слову «русский». Даже коммунизм западные ученые объявили извечным русским рабством. При описании русских и их отличий от американцев обоснованием все чаще служила эталонизация американской культуры. По данным Л. Томи, в период холодной войны данной стратегии были подчинены как методы исследования, так и интерпретация результатов.
А.И. Солженицын обвинял многих западных истолкователей русской культуры в плохой осведомленности о России, узости кругозора и даже в преднамеренности. Писатель указывал на длинный ряд научных трудов американских ученых, сознательно искажающих облик России. Среди них книга Р. Пайпса «Россия при старом порядке», в которой выдвигается концепция о том, что вся история России никогда не имела другого смысла, как создать полицейский строй. Подобные приемы, считает Солженицин, ведут только к одному возможному выводу – «об античеловеческой сути русской нации» [7].
Таким образом, по мнению многих исследователей, к середине ХХ столетия в американском сознании было сформировано устойчивое мнение, что русскому характеру, воспитанному православием, свойственны терпение, покорность, безличность, низкий уровень духовных запросов. В то же время многие советские авторы сами изощрялись в показе Америки только как страны «желтого дьявола», «суда Линча» и потогонной системы эксплуатации рабочих. С 1945 по 1985 г. в СССР были опубликованы тысячи книг и статей, в которых США изображались в самых черных тонах. Создавалась своеобразная культура конфронтации, атмосфера постоянной борьбы с внешним врагом.
И все же, в российском обществе даже в период расцвета антиамериканской пропаганды советские люди могли познакомиться с лучшими образцами американской литературы, музыки, кино. Существовало уважительное отношение к американскому техническому гению, к американской деловитости, к американской демократии и культуре. Эти обстоятельства позволяют объяснить быстрый крах создававшегося советской пропагандой «образа врага» и переход к неумеренным восторгам по поводу всего американского сразу же по окончании холодной войны в середине 1980-х гг.
Рост критического отношения к Америке последних лет во многом вызван разочарованием и культурным шоком россиян при более близком знакомстве с американцами и их культурой. Разочаровали, прежде всего, американский образ существования и мышления, их отношение к миру. Иллюзия близости двух культур осталась иллюзией. «Одинокая толпа», по определению социолога Д. Рисмена, тяжело работающих индивидуалистов, мечущихся между адвокатом и психоаналитиком, рассчитывающих свои поступки с точки зрения «паблисити» и «просперити», этот образ Америки был далек от того идеалистического представления о нем, которое складывалось у некоторых людей, живших тогда за «железным занавесом». Он оказался для многих россиян чужим, непонятным и даже враждебным. Русская идея плохо сочеталась с американской мечтой.
Американцы, в свою очередь, переоценили готовность и способность России ориентироваться на американские культурные ценности. Опыт последних лет убедительно опроверг эти ожидания, разрушая миф о «пластичности истории». Надежды на то, что стоит только сконцентрировать политическую волю, подкрепить ее материальными ресурсами и Россия за несколько лет преобразится в «нормальное либеральное государство» по подобию США, не оправдались. Не учитывалось то, что ни исторические традиции России, ни доминирующая в стране политическая культура, ни российский менталитет и национальный характер не предрасполагают к такой трансформации. Впитывая чужие ценности, используя чужой опыт, Россия, как свидетельствует ее история, следовала и будет в дальнейшем следовать собственным путем.
Таким образом, за всю историю взаимодействия двух культур отношения и восприятие одного народа другим претерпело немало изменений: от равнодушия к интересу, от «сердечного согласия» к враждебной антипатии, от противостояния, попытки экспорта культурных ценностей до сотрудничества и усвоения элементов культуры друг друга на основе национальной трансформации перенимаемых элементов. Проведенное исследование свидетельствует о том, что изучение другой культуры одновременно дает богатый материал для осмысления особенностей собственного национального характера, культурных ценностей и идентичности. Также необходимо еще раз подчеркнуть важность научного изучения стереотипов, которые не только упрощают, схематизируют представление одной нации о других или о себе самой, но и часто дают ключ к пониманию национальных особенностей.