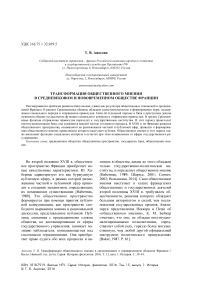Трансформация общественного мнения в средневековом и нововременном обществе Франции
Автор: Аносова Татьяна Викторовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 1 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема развития fama (молва, слава) как регулятора общественных отношений в средневековой Франции. В раннем Средневековье общины обладали самостоятельностью в формировании норм, поддержании социального порядка и отправлении правосудия. Fama об отдельной персоне и fama о преступном деянии позволяли общине осуществлять функцию социального контроля и отправления правосудия. В зрелом Средневековье функция отправления правосудия переходит к государственным институтам. В этот период происходит институционализация fama, она становится важной частью уголовного процесса. В XVIII в. во Франции развитие общественного пространства, основанного на размежевании частной и публичной сфер, приводит к формированию общественного мнения, проводником которого выступает публика. Общественное мнение в этот период также выполняет функцию социального контроля и остается при этом независимым от сферы государственного регулирования.
Традиционное общество, общественное пространство, государство, общественное мнение
Короткий адрес: https://sciup.org/147219485
IDR: 147219485 | УДК: 316.75
Текст научной статьи Трансформация общественного мнения в средневековом и нововременном обществе Франции
Во второй половине XVIII в. общественное пространство Франции приобретает новые качественные характеристики. Ю. Хабермас характеризует его как буржуазную публичную сферу, в рамках которой размежевание частной и публичной сфер приводит к созданию механизмов, определяющих их независимое существование [Habermas, 1989]. Это общественное пространство формируется при помощи практик публичной коммуникации, как пространство свободного выражения мнения и рациональной дискуссии, представленное публикой. Публика, связанная с просвещенными слоями общества, но дистанцированная от сферы государственного управления, занимает позицию наблюдателя, возвышающегося над сословными ограничениями. Она приобретает право судить обо всех процессах и яв- лениях в обществе, каким до этого обладали только государственно-политические институты, и определяет общественное мнение [Habermas, 1989; Шартье, 2001; Сеннет, 2002; Волынская, 2014]. Само общественное мнения выступает в глазах французских общественных и государственных деятелей второй половины XVIII в. трибуналом общественности, решения которого обладают большим авторитетом и силой, чем постановления государственных органов. Анализируя представления Неккера и Пеше об «общественном мнении», К. М. Бейкер отмечает, что оно, не обладая институционализированными полномочиями, «представляет собой силу, гораздо более могущественную, чем любой другой официальный инструмент политического принуждения» [Baker, 1987. P. 61].
Аносова Т. В. Трансформация общественного мнения в средневековом и нововременном обществе Франции // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, вып. 1: История. С. 39–44.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2016. Том 15, выпуск 1: История
Большинство исследователей связывают появление общественного мнения в XVIII в. во Франции с развитием структур гражданского общества и практик публичной коммуникации, опосредованных различными инстанциями, например, такими как пресса (см.: [Habermas, 1989; Шартье, 2001; Ozouf, 1989] и др.). Данная работа преследует другую цель, она рассматривает эволюцию категории fama (молва, слава) как одного из регуляторов общественной жизни средневекового общества Франции, в контексте ее сравнения с категорией общественного мнения, возникшей во Франции XVIII в. Подобная постановка проблемы позволяет расширить хронологические рамки исследования общественного мнения и рассмотреть проявление отдельных его элементов в средневековом обществе Франции. П. Ю. Уваров в своей статье «Париж XV века: события, оценки, мнения… Общественное мнение?» обозначил проблему корректности использования термина «общественное мнение» применительно к средневековому обществу. «Выбирая подходы к изучению феномена общественного мнения, придется отказаться от самых крайних и самых удобных утверждений: после Тенниса уже нельзя закрыть глаза на известную проблематичность термина “общественное мнение” в средневековом контексте, но и нет достаточных оснований, чтобы отметать априорно возможность его использования» [1994. С. 181]. В качестве источников изучения категории fama в средневековом обществе Франции использовались литературные памятники, теологические и исторические труды раннего и зрелого французского Средневековья, а также памятники средневекового права Франции.
По мнению Ю. Хабермаса, в Средневековье развивается репрезентативный тип общественности, в котором отсутствует не только противостояние частной и публичной сфер жизни, но и их независимое существование друг от друга [Habermas, 1989]. Репрезентативная общественность развивается в рамках публичной сферы как проявление общественного статуса индивида. «По сути, статус манориального лорда, на любом уровне, был нейтральным по отношению к критериям “общественное” и “частное”; но само лицо, занимающее пост, было представлено от имени общественности. Он показывал себя, представлял себя как олице- творение некоего вида “высшей” власти» [Ibid. Р. 7]. Средневековое общество Франции, как и Европы в целом, представляло собой сложную иерархизированную структуру властных отношений. Статус индивида в этот период определялся принадлежностью его к общности. Корпоративные интересы, хотя и создавали преграды на пути реализации возможностей и личных интересов человека, обеспечивали своему члену защиту и удовлетворение определенного круга потребностей. Община защищала своего члена, но в большей степени она являлась гарантом корпоративных интересов, во имя сохранности которых она, с другой стороны, накладывала на индивида определенные ограничения. «Союзы вассалов, рыцарские объединения и ордена; монастырские братии и католический клир; городские коммуны, гильдии купцов и ремесленные цехи; защитные объединения, религиозные братства; сельские общины, кровнородственные союзы, патриархальные и индивидуальные семейные группы – эти и подобные человеческие коллективы сплачивали индивидов в тесные микромирки, дававшие им защиту и помощь и строившиеся опять-таки на основе взаимности обмена услугами и поддержкой» [Гуревич, 2007. С. 155].
Каждая автономная самоуправляющаяся община имела право самостоятельного социального контроля над своими членами, формирования норм и отправления правосудия. Она сама должна была поддерживать status quo и нормы справедливости в рамках своей общности. Община занималась выявлением преступников и их наказанием. В этот период община вырабатывает механизмы саморегуляции, которые становятся основой правовой системы, правообразующим фактором. «Община озабочена преступлением в целом: от выявления преступника до удовлетворения пострадавшего» [Бет-тони, 2011. С. 21]. Поэтому в раннем Средневековье контроль государственными институтами социальной сферы носит ограниченный характер, община сама контролирует поведение своих членов.
Механизмом социального контроля поведения индивида в группе являлась fama (молва, слава, репутация). По мнению Ж. Серкилини-Туле, средневековое общество наследует две античные традиции трактовки fama: аллегорическое представление о fama как о монстре, «птице в перьях, по- крывающих глаза, рот и уши, которая быстро летает по всему миру», происходящее от Вергилия, и трактовку fama как Дома славы у Овидия [Cerquiglini-Toulet, 1993. P. 40– 41]. В первом случае предназначение fama состоит в том, чтобы сделать тайное явным, во втором она должна обессмертить имя своего обладателя.
В средневековом обществе развиваются два вида fama: fama о преступном деянии и fama об отдельном лице. Каждый из этих видов fama зарождается внутри общины и имеет свои социальные последствия. Fama об отдельном лице, – это определенный социальный капитал, то мнение, которое община, или ее достойные члены, формирует и распространяет об отдельной персоне сообразно моральным нормам, функционирующим в обществе. Поступки индивида и оценка общиной его поведения являются основой для создания хорошей или плохой fama, а механизмом ее распространения выступает «глас многих людей» [Беттони, 2011. С. 23].
Фома Аквинский, средневековый теолог XIII в., относил fama, как доброе имя, к категории внешних благ. «Доброе имя представляется одной из наиценнейших переходящих вещей, поскольку его отсутствие препятствует человеку в делании им очень многого» [2013. Ч. II-II. Вопр. 73. С. 303]. Доброе имя находится ближе к духовным благам, чем богатство, но является категорией преходящей и может быть отнято у человека, как любое внешнее благо [Там же. С. 305]. Он также отличает славу людскую от того вида славы, источником которой является Бог [Фома Аквинский, 2008. Ч. II-I. С. 23–24]. «…Благо некоего человека, имеющееся через славу, или известность, в познании многих (конечно, если само это знание истинно), должно быть производным от блага, существующего в самом человеке; и так оно предполагает совершенное или начальное счастье. Если же знание ложно, то оно не согласуется с вещью: и так благо не обнаруживается в том, кто знаменит своею славой» [Там же. С. 24]. Также Фома Аквинский считал, что fama людская, в отличие от божьей, эфемерна, она не обладает постоянством и легко разрушается ложными слухами. Тем не менее подобная преходящая людская fama является достоянием человека и определяет его положение в общине. Человек может приумножать и со- хранять свою fama, как социальный капитал, но процесс формирования fama и ее контроля ему неподвластен. По мнению А. Бетто-ни, «благодаря добрым или худым делам может сформироваться добрая или худая fama, власть же активации и детерминации данного потенциального результата находится внутри общины» [2011. С. 23]. Другими словами, в руках общины находился инструмент социального контроля (возможность формировать fama индивида), которым она могла пользоваться по собственному усмотрению [Вальдман, 2015].
Примером защиты и поддержки общиной своего члена и его fama может служить институт соприсяжничества, существовавший в судебной практике средневековой Европы. В Салической правде, как и в других варварских правдах, при отсутствии прямых доказательств против подозреваемого, последний приносил очистительную присягу при участии соприсяжников: «Если кто лишит жизни человека и, отдавши все имущество, не будет в состоянии уплатить следуемое по закону, он должен представить 12 соприсяжников (которые поклянутся в том), что ни на земле, ни под землею он не имеет имущества более того, что уже отдал» [Салическая правда, 1950. С. 55]. С этого момента данная присяга сама обретала статус доказательства. Роль соприсяжников в этом случае состояла не в подтверждении истинности самих фактов, приводимых обвиняемым, а в том, чтобы удостоверить надежность его клятвы. Количество соприсяжников варьировалось в зависимости от тяжести преступления или от ценности обладаемой им fama. В отдельных случаях половину соприсяж-ников предоставлял ответчик, вторую часть мог выбрать истец. В Extravagantia B, королевском постановлении, добавленном в IX в. к основному тексту Салической правды, говорится: «По Салическому закону должно быть 12 соприсяжников; такого обычая держатся франки. Мы же в Италии, согласно капитулярию Людовика и Лотаря (клянемся) сам-семь. А свидетелей против франка должно быть 7. Франки после свидетелей не принимают клятвы» [Там же. 1950. С. 84].
Другим механизмом социального контроля является процедура infamia, т. е. обесславливания. Во второй половине XII – XIII в. глоссаторы выделяли два вида in-famia: infamia iuris (юридическое обесслав- ливание) и infamia facti (фактическое обесславливание), из которых infamia iuris являлось видом обесславливания, находившимся в ведении суда, а infamia facti налагалось общиной, которая с его помощью карала несоответствие общепринятым нормам поведения [Беттони, 2011. С. 23]. Таким образом, наряду с формированием fama, община обладала возможностью лишить своего члена доброго имени, понизить или полностью отнять его социальный статус. Утрата доброй fama ограничивала доступ индивида к званиям, выполнению определенных социальных обязанностей, лишала надежности его слово, в том числе и свидетельские показания, возможности выдвигать обвинения [Там же. С. 24].
В XII в. происходит институционализация fama, она становится значимым элементом уголовного судопроизводства. Fama как коллективный глас позволяла судье, при отсутствии пострадавшей стороны, начать инквизиционный процесс, т. е. «поступить ex officio» [Там же. С. 22]. В этом случае процесс возбуждался не по жалобе, с которой к судье обращался пострадавший, а с fama denunciante, доноса о молве, который выступал в роли равноправного субъекта уголовного процесса и представлял пострадавшую сторону. Французский юрист XIII в. Филипп Бомануар определил значение репутации для судопроизводства [Beaumanoir, 1900. T. 2. № 1815. P. 419].
Памятники раннего и зрелого Средневековья полны нравоучительных историй о потере доброго имени в результате недолжного поведения, что свидетельствует о постоянной заботе членов средневекового общества о своей репутации. Григорий Турский, живший в VI в., начинает главу об осквернении церкви св. Дионисия из-за доброго имени женщины в «Истории франков» следующим образом: «В Париже какую-то женщину обвинили в том, что она, по утверждению многих, оставив мужа, будто бы находилась в любовной связи с другим» [1987. С. 139]. Коллективный глас, так называемое «утверждение многих», выдвинул обвинение против некой женщины в преступном деянии. Это обвинение повлекло за собой требование родственников мужа к отцу этой женщины привести доказательства невиновности дочери либо покарать виновную, чтобы «бесчестье не запятнало род» [Там же]. Спор закончился битвой двух знатных родов в церкви св. Дионисия, в результате которого и произошло осквернение церкви. Женщину же вызвали в суд, и она покончила жизнь самоубийством. «Книга рыцаря Делатур Ландри, написанная в назидание его дочерям» XIV в. состоит из поучительных историй и новелл о должном поведении и этических наставлений. В одной из таких новелл Ж. Делатур Ландри рассказывает о девице, к которой он отказался свататься из-за ее легкомысленных манер. Ее судьба также оказалась печальной. «И я не женился на ней из-за легкомыслия ее и излишней откровенности. И много раз потом я благодарил Господа за это, ибо не прошло и полутора лет, как ее оговорили и осудили – не знаю, правда, заслуженно или понапрасну. И умерла она в бесчестии» [Пятнадцать радостей брака…, 1991. С. 161].
Таким образом, можно сделать вывод, что fama как регулятор соблюдения норм общественной жизни развивается в традиционном обществе средневековой Франции, в рамках практик непосредственной, личной коммуникации. Трансформация роли fama связана с эволюцией социально-политических структур средневековой Франции. В раннесредневековом обществе функция создания нормы и отправления правосудия находится вне сферы контроля государственных институтов. В этот период самоуправляющиеся общины самостоятельно осуществляют правосудие и социальный контроль над своими членами. Механизмом подобного социального контроля выступает fama. Функция формирования fama и ее лишения входит в сферу полномочий общины. Таким образом, через формирование fama общество поощряет реализацию определенных моделей поведения.
В XIII в. община постепенно теряет свои полномочия в сфере отправления правосудия и эта функция, как и функция поддержания общественного порядка, переходит к государственным институтам, которые включают ранее существовавшие практики в систему государственного управления. На этом этапе развития средневекового общества fama становится важной частью инквизиционного процесса. Тем не менее, несмотря на сокращение возможностей общины в использовании fama и infamia facti, они продолжают оставаться важным элементом общинного социального контроля.
Fama в средневековом обществе и общественное мнение во Франции XVIII в. имеют сходные функции, но разновекторные направления развития. Они выполняют функцию социального контроля и поддержания моральных норм, необходимых для существования общества, выступают проводниками «гласа народа». Но если fama, возникнув вне сферы государственного контроля, постепенно включается в систему государственных институтов и становится частью процесса отправления правосудия, то общественное мнение, в свою очередь, остается независимым от сферы воздействия властных структур и само выполняет функцию своеобразной судебной инстанции, вынося общественный вердикт самим государственным институтам.
Список литературы Трансформация общественного мнения в средневековом и нововременном обществе Франции
- Беттони А. Fama, позорящие наказания и история правосудия (XVI-XVII вв.) // Вина и позор в контексте становления современных государств (XVI-XX вв.). СПб., 2011. С. 17-38.
- Вальдман И. А. Политогенез и трансформация традиционного общественного сознания // Идеи и идеалы. 2015. № 1 (23). Т. 2. С. 30-40.
- Волынская А. Г. Скандал как субверсивная практика: препринт WP20/2014/01/ М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. 60 с.
- Григорий Турский. История франков. М.: Наука, 1987. 464 с.
- Гуревич А. Я. Избранные труды. Средневековый мир. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. 560 с.
- Пятнадцать радостей брака и другие сочинения французских авторов XIV-XV веков. М.: Наука, 1991. 318 с.
- Салическая правда / Под ред. В. Ф. Семенова. М.: МГПИ, 1950. 167 с.
- Сеннет Р. Падение публичного человека / Пер. с англ. О. Исаевой, Е. Рудницкой, Вл. Софронова, К. Чухрукидзе. М.: Логос, 2002. 424 с.
- Уваров П. Ю. Париж XV века: события, оценки, мнения… Общественное мнение? // Одиссей. Человек в истории. 1993.
- Образ «другого» в культуре. М., 1994. С. 175-193.
- Фома Аквинский. Сумма теологии / Пер. с лат. А. В. Апполонова. М.: Сигнум Веритатис, 2008. 752 с.
- Фома Аквинский. Сумма теологии / Пер., ред. и примеч. С. И. Еремеевой. Киев: НикаЦентр, 2013. 832 с.
- Шартье Р. Культурные истоки Французской революции. М.: Искусство, 2001. 256 с.
- Baker K. M. Politique et opinion publiquesous l'Ancien Régime // Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 1987. № 1. P. 41-71.
- Beaumanoir Ph. De. Coutumes de Beauvaisis / Ed. par. Am. Salmon. Paris: Alphonse Picard et fils, éditeurs, 1900. T. 2. URL: http:// gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220827p.r=Cout umes de Beauvaisis T 2 (дата обращения 23.10.2015).
- Cerquiglini-Toulet J. Fama et les preux: nom et renom à la fin du Moyen Âge // Médiévales. 1993. № 24. P. 35-44. URL: http://www.persee.fr/doc/medi_0751-2708_ 1993_num_12_24_1268 (дата обращения 23.10.2015).
- Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: Polity Press, 1989. 324 p.
- Ozouf M. Public Spirit // A Critical Dictionary of the French Revolution. Cambridge, 1989. P. 771-779.