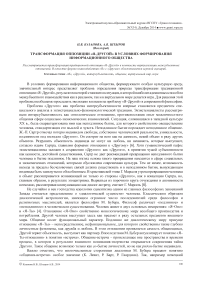Трансформация оппозиции «я-другой» в условиях формирования информационного общества
Автор: Казанова Наталия Витальевна, Штыров Андрей Вячеславович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 7 (34), 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается трансформация традиционной оппозиции «Я-Другой» в контексте виртуализации межсубъектных отношений. В качестве формы взаимодействия «Я» с «Другим» обосновывается игровой сценарий.
"я", "другой", интерсубъектность, общение, виртуальный мир, игра
Короткий адрес: https://sciup.org/14822165
IDR: 14822165
Текст научной статьи Трансформация оппозиции «я-другой» в условиях формирования информационного общества
В условиях формирования информационного общества, формирующего особую культурную среду, значительный интерес представляет проблема определения природы трансформации традиционной оппозиции «Я–Другой», результатом которой становится ситуация, в которой наиболее адекватным способом межсубъектного взаимодействия как в реальном, так и в виртуальном мире делается игра. Для решения этой проблемы необходимо проследить эволюцию взглядов на проблему «Я–Другой» в современной философии.
Проблема «Другого» как проблема интерсубъективности впервые становится предметом специального анализа в экзистенциально-феноменологической традиции. Экзистенциалисты рассматривали интерсубъективность как онтологическое отношение, противопоставив опыт межличностного общения сфере социально-экономических взаимосвязей. Ситуация, сложившаяся в западной культуре XX в., была охарактеризована ими как неподлинное бытие, для которого свойственно овеществление человека, стандартизация его мыслей и чувств. Неподлинное бытие порождает неподлинное общение. Ж.-П. Сартр отмечал потерю индивидом свободы, собственно человеческой реальности, уникальности, подлинности под взглядом «Другого». Он смотрит на него как на данность, некий объект в ряду других объектов. Разрушить объектность индивида не могут ни любовь, ни ненависть, которые выступают, согласно идеям Сартра, главными формами отношения к «Другому» [6]. Хотя гуманистический пафос экзистенциализма заложен в сохранении «Другого» как «Другого», в принятии чужой субъективности как ценности, достойной существования, Сартр не дает рекомендаций превращения неподлинного бытия человека в бытие подлинное. На наш взгляд основа такого превращения находится в сфере социальных и экономических отношений, которыми обусловлена современная культура. Тем не менее, возможность выхода за пределы бесчеловечных связей должна существовать и в неподлинном бытии, вынуждающем индивида быть замкнутым и обособленным. В христианской этике Г. Марселя угроза превращения человека в объект рассматривается возникающей не только со стороны «Другого», как в концепции Сартра, но, главным образом, в результате эгоцентризма. Вырваться из порочного круга отчуждения и анонимности возможно, рассматривая коммуникацию как диалог-встречу, считает Г. Марсель [8].
Не случайно в век господства идеологии сциентизма одним из главных философских завоеваний Запада считается представление о «диалогической сущности» человека. Классическим образцом диалогической антропологии, имеющим огромное число последователей среди философов и религиозных мыслителей, является философия М. Бубера. Философ различает «подлинное» и «неподлинное» в человеческом существовании. Человек живет в двух основных измерениях: «Я–Оно» и «Я–Ты» [4]. Отношение «Я–Оно» свойственно монологическому миру всеобщего производства и потребления. Другой человек выступает здесь как предмет в ряду остальных предметов внешнего мира. Общение носит функциональный характер. Подлинно же диалогическому миру присуще отношение «Я–Ты» – непосредственное, нефункциональное, для которого свойственны такие глубоко личностные феномены, как дружба и любовь. В этом отношении проявляется самость общающихся, Другой теряет объектность, выступает как партнер. Впоследствии М. Бубер актуализирует понятие «Я– Ты-отношения» в понятии «встреча». Общение-встреча – происходящее вне пространства и времени процесс, в котором в результате взаимного понимания-творчества открывается сокровенная тайна Другого. Такое общение возможно только как со -бытие личностей, но не как рядом -бытие индивидов.
Важно отметить, что многочисленные сторонники диалогики М. Бубера придают понятию «общения-встречи» особое значение (К. Левит, Р. Барт, Р. Гвардини). Так, например немецкий философ О. Больнов рассматривает встречу как ключевое слово современности. В его философии оно приобретает предельное звучание: встреча жизненно необходима, т.к. только в общении с «Ты» человек становится самим собой, «открывает» себя для себя. Однако в полном смысле слова встречи случаются редко. Отношение человека к собственному бытию в эти моменты сродни экзистенциальному кризису, когда переворачивается вся прежняя жизнь и начинается нечто совершенно новое [3].
Человеческой общности присуща онтологическая способность к непосредственному восприятию «Другого», устремленность в мир «Другого». Такова позиция представителей французского персонализма (Э. Мунье, Ж. Лакруа и др.). Открытость «Другому» – основа подлинно личностного общения, которое является, по мнению персоналистов, целью и назначением человека. Истинная коммуникация – любовь, понимаемая Мунье как сверхприродное отношение, как новая форма бытия. «Я существую в той мере, в какой я существую для другого, и в пределе быть означает любить. Эта истина и есть персонализм» [11, с. 45]. Более того, персоналисты упраздняют саму возможность подлинного общения как традиционной связи между людьми посредством интеллекта, слова, деятельности. Истинное общение есть непосредственная коммуникация сознаний, их взаимопроникновение. Встреча личностей происходит по ту сторону слов и систем.
К. Ясперс в теории экзистенциальной коммуникации, разрабатывая идею о противопоставлении «подлинного» и «неподлинного» в бытии человека, выделяет несколько уровней общения, наиболее примитивный из которых – коммуникация в «наличном бытии» [15]. Солидарность наличного бытия – эмпирически наблюдаемые и изучаемые общности людей (семья; государство, религиозные объединения и пр.), в которые индивид вступает в силу необходимости или для достижения определенных целей. Не являются «подлинными» ни «коммуникация предметной рациональности», для которой свойственно общение на основе формальных законов мышления, ни коммуникация на уровне духа, в которую индивиды выступают как часть духовной целостности в пределах безлично осуществляемой в субъектах общей идеи. Единственно подлинный тип общения – экзистенциальная коммуникация, осуществляемая на самом глубинном уровне человеческого бытия, который невозможно постичь, по мнению К. Ясперса, не только рационально, но и интуитивно. На него лишь указывает экзистенция, выступающая в качестве знака, обозначающего «нечто совершенно другое». Постичь экзистенцию можно путем «экзистенциального просветления», вызываемого общением с другим человеком. В «экзистенциальной коммуникации» человек ни в коем случае не выступает в качестве средства, он является самоцелью. Общение понимается здесь как общение самостей, имеющих равный онтологический статус. Рассматривая конкретные формы межличностного общения, многие авторы обращаются к феномену любви, и К. Ясперс, в свою очередь, видит источник непосредственного общения личностей не в прагматизме играющих социальные роли индивидов, а в любви. Итак, плодотворное развитие коммунологической традиции, обосновывающей сущностную, онтологическую потребность индивида в «Другом», характерно для современной западной философии.
Тема диалогичности культур разрабатывается не только в западноевропейской традиции. Например, М. М. Бахтин, разрабатывая свою концепцию диалога, как единственного способа отношений, ведущего к взаимопониманию разных культур, опирается на анализ первичного соотношения «Я–Другой». Согласно Бахтину, «Другой» также онтологичен, укоренен в бытии, как и «Я». «Другой» нуждается во «мне», предрасположен не только к простому познанию, но и к «сочувственному» пониманию «меня». «Я» и «Другой» выступают как сотворцы друг друга, отношение между ними – «сотворчество понимающих» [2, с. 365–366]. Антропологическая теория общения неразрывно связана у Бахтина с пониманием диалога как отношения универсального, всеобщего принципа бытийственности. Диалогические черты (oткpытость, незавершенность, взаимодополнительность и взаимообогащение) присущи процессу развития общества в целом. Монолог возможен лишь в малом времени (современность, ближайшее прошлое и предвидимое будущее). Большое время (безграничное прошлое и безграничное будущее) – бесконечный и незавершенный диалог. Рожденные в диалоге прошедших веков смыслы постоянно обновляются, в них привносится новое, современное звучание. Диалог постоянно развивается, а значит, «у каждого смысла будет свой праздник возрождения» [2, с. 393].
Диалогика приобретает в последнее время все более универсальный характер. Диалог смыслов в контексте развития культуры (Бахтин) получает новое звучание как в русской традиции (идеи В.С. Библера о диалоге культур как диалоге личностей), так и в западных направлениях (культура как место «всеобщего человеческого общения» в концепции Э. Левинаса).
Представители антропологического направления в философской мысли заняты поиском путей сохранения «остатков человечности» в порабощающем индивидуальность техническом мире, в массовом обществе, основным условием существования которого является стимуляция потребности индивидов потреблять, в результате чего сам человек становится предметом потребления.
В современном информационном социокультурном пространстве доминирует постмодернисткая модель существования, в которой преобладают культ случая и игры, что значительно усложняет процесс традиционного, выработанного веками способами ведения диалога. Пространство постмодерна – это «мир симулякров», в котором тотально провозглашен отказ от поиска сущности, истины, цели (жизнь как реакция), отказ от признания абсолютных ценностей и, как следствие, провозглашена «смерть субъекта» (Р. Барт, М. Фуко). Как было показано выше, в традиционном мироощущении принято было считать невозможным самоопределение человека без участия других людей, без социальной нормативно-ценностной регламентации, без устремленности к некоему Абсолюту. Человек эпохи постмодерна разочарован в Абсолютном как таковом, он не чувствует необходимости в устремленности вверх.
Нарастающее ощущение необходимости компенсировать это разочарование, преодолеть его, заставляет индивида переосмысливать свое место в окружающем мире, и даже заново искать его. В условиях отсутствия единой цели, множественности формально равнозначных ценностных ориентиров, к тому же постоянно сменяющих друг друга, это становится нетривиальной задачей. Одним из способов решить ее, одновременно адаптируясь к реалиям изменчивого фрагментарного мира, является применение индивидом поведенческой стратегии «коротких встреч», позволяющей избежать привязанностей. Реализуя данную стратегию, человек фактически превращает свою жизнь в перфоманс, где он играет разные роли, пытаясь тем самым компенсировать собственную одномерность (Г. Маркузе) [11]. Неудивительно, что в этой ситуации в наиболее адекватную форму общения человека с миром превращается игра, поскольку вариативность «Я» приемлема только для «человека играющего». Игра спасает личность от кризиса идентичности, т.к., играя, мы соответствуем не одному проекту, а множеству вероятностей. Оказавшись вне системы привычных четко детерминированных связей, свойственных мирам классики и модерна, человек современный получает свободу, которая предопределяет ситуацию игры, делая ее неизбежной. Поскольку в изменившемся и крайне нестабильном мире нет ничего абсолютного и единственно подлинного, нет критерия выбора между множеством возможностей, то человек оказывается осужден быть играющим.
Только в человеке играющем можно усмотреть и уверенность его в том, что многоликое «Я» способствует преодолению неполноты и ограниченности собственной человеческой природы. Более того, игровая самоидентификация является совершенно неизбежным следствием усталости человека от «рацио» и реакцией на несвободу «человека-массы». Играя, человек раздвигает рамки индивидуального существования. В то же время в игре реализуется многослойное взаимодействие «Я», «Другого», «Я-Иного», совокупности «Других». В игре индивид первоначально нуждается в партнере, ему необходим «Другой» для осуществления игрового действия, игра – это всегда диалог. Коллективная игра – это совместные действия, которые основываются на личной заинтересованности всех участников, на принятых всеми правилах и принятии оговоренной ситуации (создании ее плана, выработки целей и т.д.). Именно в игре реализуется взаимоотношение человека с иным, «Другим», происходит игровая идентификация через исполнение ролей «Другого». Данный процесс можно определить как «бытие-в-партнере» (процесс взаимоопределения человека человеком в бытии).
Игра, как и любой иной социальный процесс, протекает в определенной среде, обеспечивающей взаимодействие субъектов, тем самым не только влияя на взаимоотношения индивида с «Другим», но и формируя пространство, в котором протекает это взаимодействие, становясь одним из ведущих способов виртуализации жизненного пространства человека. В процессе игры формируется и функционирует неустойчивая, изменчивая во времени структура индивидуальных образов и стереотипов, порождаемых многообразием информационных сообщений текстового, визуального и акустического характера, составляющая особую разновидность реальности – виртуальную реальность. Взаимодействуя с объектами окружающего мира, виртуальная реальность дополняет его, делает более комфортным для существования индивида, подстраиваясь под его нужды и потребности. В этой реальности действует виртуальное «Я» – идеальный образ «Я», проекция себя реального в пространство виртуальных образов.
В некоторых случаях виртуальный мир вступает в «конкуренцию» с миром реальным, превращая игру из способа существования индивида в окружающем социопространстве, способа его взаимодействия с «Другими» в способ ухода от реальности, замыкания субъекта в собственном пространстве. Все чаще возникают ситуации, когда виртуальный игровой мир начинает представляться субъекту игры гораздо более богатым и значимым, чем окружающая повседневная действительность, что чаще всего приводит к дальнейшему усугублению кризиса личностной идентичности.
«Приняв роль другого» в процессах социальной интеракции, непрерывно проецируя образ «как нас видят другие», индивид присваивает себе позиции реальных (предполагаемых / возможных) «Других». Индивид, ощущая воздействие «ролевых ожиданий» со стороны значимых для него людей, усваивает ценности группы в качестве своих собственных (Дж. Мид, Ч. Кули) [9]. Игровые отношения определяются диалоговым режимом их развертывания, игровая реальность есть субъект-субъектные взаимоотношения.
Таким образом, основную возможность поиска «Другого» для ведения диалога в современной культурной ситуации предоставляет именно игровой сценарий выстраивания субъект-субъектных отношений. Игра дает как возможность расширения границ субъектного бытия, так и шанс выйти из рамок социальной детерминированности. Игра, как, прежде всего, свободная деятельность, является основой большинства современных социальных процессов, предоставляя индивиду необходимые инструменты для освоения социальной реальности в виде разветвленной и многоуровневой системы правил современного коммуникативного пространства, для понимания и выработки культурных смыслов и символов.
Список литературы Трансформация оппозиции «я-другой» в условиях формирования информационного общества
- Баева Л.В., Алексеева И.Ю. E-HOMO SAPIENS: виртуальный микрокосм и глобальная среда обитания//Философские проблемы ИТ и киберпространства. 2014. № 1(7). С. 86-97.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., Искусство, 1986.
- Больнов О.Ф. Философия экзистенциализма. СПб., Лань, 1999.
- Бубер М.Проблема человека//Я и Ты/пер. с нем. Ю.С. Терентьева, Н. Файнгольда; послесл. П.С Гуревича. М., Высшая школа, 1993. С. 73-158.
- Восканян М.В. HomoInformaticus и HomoLudens: игра в культуре информационного общества//Вопр. культурологии. 2008. № 1. С. 17-20.
- Гуревич П.С. Философская антропология Сартра//Философские науки. М., 1989. № 3.
- Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: исследование идеологии развитого индустриального общества. М., АСТ, 2002.
- Марсель Г. Быть и иметь. Новочеркасск: «Сагуна», 1994.
- Мид Дж. От жеста к символу//Американская социологическая мысль: Тексты. М., МГУ, 1994.
- Микешина Л.А., Опенков М.Ю. Новые образы познания и реальности. М., РОССПЭН, 1997.
- Мунье Э. Персонализм/Пер. с фр. и примеч. И.С. Вдовина. М.: Искусство, 1992.
- Ситниченко Л.А. Человеческое общение в интерпретациях современной западной философии. Киев, Наукова думка, 1990.
- Философия коммуникации: проблемы и перспективы: монограф./под редакцией д.ф.н., проф. С.В. Клягина, д.ф.н., проф. О.Д. Шипуновой. СПб.: Изд-во Политехн.ун-та, 2013.
- Шахалова О. И. Онтологический статус другого в процессах межиндивидуальной коммуникации//Смысл «и» выражение: контроверзы современного гуманитарного знания: Сборник статей и выступлений. Самара, 2001. C. 108-111.
- Ясперс К. Духовная ситуация времени//Его же. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 288-418.