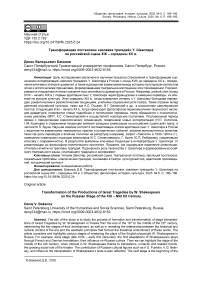Трансформация постановок «великих трагедий» У. Шекспира на российской сцене XIX – середины XX в.
Автор: Баканов Д.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования заключена в изучении процесса становления и трансформации сценических интерпретаций «великих трагедий» У. Шекспира в России с конца XVIII до середины XX в., определении ключевых этапов их развития, а также в раскрытии взаимосвязи между историкокультурным контекстом эпохи и эстетическими принципами, формировавшими театральное воплощение этих произведений. Рассматриваются и выделяются этапы освоения пьес английского драматурга в России. Например, ранний этап (конец XVIII – начало XIX в.): первые адаптации пьес У. Шекспира через французские и немецкие переводы, их влияние на русскую культуру. Этап середины XIX в., когда возрастает интерес к У. Шекспиру благодаря переводам, романтическим и реалистическим тенденциям, усилению социальной роли театра. Также отражен вклад деятелей российской культуры, таких как А.С. Пушкин, В.Г. Белинский и др., в осмысление шекспировских текстов. Следующий этап – начало XX в., когда происходит философское переосмысление творческого наследия драматурга, появляются новые подробные и поэтические переводы, театр обращается к психологическому реализму (МХТ, К.С. Станиславский) и осуществляет новаторские постановки. Послевоенный период связан с преодолением идеологических ограничений, появлением новых интерпретаций (Н.П. Охлопков, Г.М. Козинцев) и отражением тенденции влияния западных режиссеров на российский (советский) театр, в частности П. Брука. Научная новизна состоит в систематизации этапов адаптации пьес У. Шекспира в России с акцентом на взаимосвязь театральных практик и исторических событий, анализе малоизученных аспектов, таких как роль переводов и влияние политики на репертуар (например, запрет «Гамлета» в 1930–1950е гг.), освещении новаторских подходов режиссеров (К.С. Станиславского, Г. Крэга, Ю.П. Любимова), соединивших классику с современностью. В результате выявлены ключевые тенденции в интерпретации У. Шекспира: от романтизации до философскополитического прочтения. Показано, как социальные изменения (революции, оттепель) влияли на трактовку трагедий. Подчеркнута роль творчества У. Шекспира в формировании российского театрального языка, сочетающего традицию и эксперимент.
Уильям Шекспир, российская сцена, театральная эстетика, эволюция постановок, социальные проблемы, классическая трагедия, инновации в театре, культурный код, адаптации произведений, исторический контекст
Короткий адрес: https://sciup.org/149148210
IDR: 149148210 | УДК: 130.2:792 | DOI: 10.24158/fik.2025.6.24
Текст научной статьи Трансформация постановок «великих трагедий» У. Шекспира на российской сцене XIX – середины XX в.
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербург, Россия, ,
На протяжении 460 лет поэт и драматург У. Шекспир остается востребованным и актуальным как за рубежом, так и в российском культурном пространстве. Проводится значительное количество фестивалей, конференций и других мероприятий, таких как ежегодный Шекспировский фестиваль в Стратфорде-на-Эйвоне, фестиваль под открытым небом в Нью-Йорке (New York Shakespeare Festival), Шекспировские чтения в Москве, межвузовская научно-практическая конференция «Творческое наследие Уильяма Шекспира в мировой культуре», которая проходит в Литературном институте имени А.М. Горького, – список может длиться бесконечно. Все это указывает на неослабевающий интерес к творчеству английского гения.
Актуальность данного исследования заключается в культурно-исторической ценности изучения рецепции творчества У. Шекспира в России, так как он остается одной из ключевых фигур мировой драматургии, а его пьесы продолжают активно ставиться в театрах по всему миру, включая Россию. Исследование демонстрирует, как трансформировалось восприятие У. Шекспира в России на протяжении разных исторических эпох (от классицизма до советского периода), что позволяет проследить эволюцию отечественного театрального искусства в целом.
Многие художественные тенденции, такие как эксперименты с формой, политические аллюзии и психологизация образов, сохраняют актуальность по сей день. Современные режиссеры продолжают переосмысливать наследие У. Шекспира, используя методологические подходы, сформированные в XX в. Особую значимость приобретает изучение роли шекспировского творчества в формировании русского культурного кода – от пушкинского «шекспиризма» до интерпретаций советского и постсоветского периодов. Это необходимо для понимания механизмов адаптации западной классики к национальному театральному пространству.
Цель исследования заключена в изучении процесса становления и трансформации сценических интерпретаций «великих трагедий» У. Шекспира в России с конца XVIII до середины XX в., определении главных этапов их развития, а также в раскрытии взаимосвязи между историкокультурным контекстом эпохи и эстетическими принципами, формировавшими театральное воплощение этих произведений. Научная новизна состоит в систематизации этапов адаптации пьес У. Шекспира в России с акцентом на взаимосвязь театральных практик и исторических событий, анализе малоизученных аспектов, таких как роль переводов и влияние политики на репертуар (например, запрет «Гамлета» в 1930–1950-е гг.), освещении новаторских подходов режиссеров (К.С. Станиславского, Г. Крэга, Ю.П. Любимова), соединивших классику с современностью.
Методологической основой исследования выступает культурологический анализ, реализуемый через синтез историко-культурного, театроведческого и социологического подходов к изучению эволюции сценических интерпретаций.
В результате выявлены ключевые тенденции в интерпретации У. Шекспира: от романтизации до философско-политического прочтения. Показано, как социальные изменения, такие как революции, оттепель, влияли на трактовку трагедий. Подчеркнута роль творчества У. Шекспира в формировании российского театрального языка, сочетающего традицию и эксперимент.
В России первое упоминание об У. Шекспире встречается в «Эпистоле о стихотворстве» 1748 г. А.П. Сумарокова1. Он выделяет У. Шекспира как прославленного поэта прошлого. Переводов с оригинала в то время в России не было, и чаще всего произведения У. Шекспира перелага- лись на русский язык через немецкие или французские адаптации, что зачастую искажало смысловую нагрузку оригинальных произведений английского драматурга. Например, тот же А.П. Сумароков, издав в 1748 г. классическую трагедию «Гамлет», создал свой перевод по французскому пересказу данной пьесы 1745 г. П.-С. Лапласа (1749–1827 гг.). Н.А. Гнедич делал перевод «Короля Лира» («Лера», 1808 г.) по версии Ж.Ф. Дюси (1733–1816 гг.). Но даже при таком искаженном подходе российские читатели в XVIII в. открыли для себя творческий мир У. Шекспира.
Особой вехой в возрастании интереса к творчеству и особенно к драматургии У. Шекспира в России стал XIX век. Это было обусловлено несколькими причинами.
Во-первых, это объяснялось быстрой сменой культурных направлений первой половины XIX в. Отмечались увеличение внимания к человеку, погружение во внутренний мир личности. Не долг, а чувство стало побудителем мотивов человеческих поступков. Наблюдался переход от классицизма к просветительской системе, затем к романтизму, а впоследствии к реализму (критическому реализму) и натурализму.
В литературе находят отражение идеи борьбы и свободы личности. Это, конечно, подвигало великих литераторов того времени, составивших золотой фонд российской культуры, обращаться к творчеству западноевропейских авторов, в число которых входит и У. Шекспир. Его глубокое понимание жизни, человеческих взаимоотношений и переживаний находит отклик в умах русских творцов.
Опираясь на творчество У. Шекспира, А.С. Пушкин создает самобытную литературу, пропитанную национальными чертами, где особый акцент сделан на духе народности. В понимании Александра Сергеевича У. Шекспир отвечает духу времени, так как его художественная система основана на жизненной правде характера и объективности.
Благодаря А.С. Пушкину в обиход вошло понятие «шекспиризм»: «…своим возникновением в русской критической мысли этот термин обязан изучению заочного диалога Пушкина и Шекспира, отчасти потому, что именно за Пушкиным в русской культуре закрепилась репутация первого серьезного шекспиролога, понятие “шекспиризм” чаще всего применялось к его творчеству» (Захаров, 2014: 237). А.С. Пушкин подмечает многогранность и психологическую объемность образов, представленных У. Шекспиром: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства раскрывают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры»1.
Отголоски влияния У. Шекспира прослеживаются и у А.С. Грибоедова, и у О.М. Сомова. В.К. Кюхельбекер пишет в 1832 г. «Рассуждение о восьми исторических драмах Шекспира, и в особенности о Ричарде III»2. Художественно-эстетическим комплексом идей – а это понимание исторических процессов прошлого, будущего и настоящего (что А.С. Пушкин называл «взглядом Шекспира») – У. Шекспира был вдохновлен Ф.М. Достоевский.
Во-вторых, появилось значительное количество оригинальных переводов пьес У. Шекспира. Интерес к подлинному У. Шекспиру вызвал подготовку новых переводов. Одновременно с В.К. Кюхельбекером и независимо от него М.П. Вронченко перевел «Гамлета» (1828 г.), первое действие «Короля Лира» (1832 г.), «Макбета» (1837 г.), а В.А. Якимов – «Короля Лира» (1833 г.) и «Венецианского купца» (1833 г.). Ряд переводов остался неопубликованным3.
В-третьих, в общественной жизни резко возросла роль театрального искусства. XIX век – это время серьезных социальных перемен. На общественные изменения наложили отпечатки Отечественная война 1812 г., восстание декабристов 1825 г., а затем и отмена крепостного права 1861 г. Театр становится более доступным местом, отражает общественные изменения, начинает затрагивать социальные проблемы, волнующие народ. Он выступает важным средством выражения народного мнения, центром культурной идентичности. Диалог автора со зрителем выводил театр на новый уровень, где затрагивались вопросы социального неравенства, отражались тенденции реформирования общества. Проблематика, поднимаемая драматургами того времени, волновала всех: знать, разночинцев, студентов и бедняков. XIX век – период расцвета национального (русского) театра. Театр становится полноценной, самостоятельной, значимой культурной институцией, оказывающей социальное влияние в целом на общественную и культурную жизнь в России. Рассвет театра ознаменован появлением плеяды актеров, драматургов, художников и композиторов. Объектом внимания служит человеческая природа. Драматургами создаются уникальные характеры, выписываются образы, выражающие всю сложность внутренних переживаний. Например, А.Н. Островский, описывая жизнь мещан и купечества, открывает эмоционально новый насыщенный пласт общества, где активно затрагиваются темы конфликта поколений, несправедливости, обсуждается тема власти.
У. Шекспир значим не только как создатель ярких характеров и сценических образов, но прежде всего выделяется идейностью, огромным количеством смыслов, заложенных в его произведениях. Поэтому вся творческая общественность России в XIX в. обратила внимание на великого английского художника. Вот что пишет А.А. Аникст: «Интерес к Шекспиру никогда не был ограничен эстетической сферой. Для каждой эпохи его творчество являлось источником больших идей о жизни. Именно идейное богатство драматургии Шекспира, ее глубочайшая жизненность обеспечили его творениям длительное пребывание на театральных подмостках. Более того, даже эстетические предубеждения, например классицистов XVIII в., не могли помешать признанию жизненной значительности идей шекспировской драматургии» (1960: 597).
Театр эпохи У. Шекспира (не вдаваясь в подробности) - театр «творческого единства драматурга, актера и зрителя» (Аникст, 1960: 601), чему способствовало само устройство сценического пространства того времени. Отсутствие сценической коробки (появилась только в XVII в.), выдвинутый просцениум, который зритель обступает с трех сторон, ниша в углублении, галерея над ней, отсутствие декораций (только необходимое: стол и разная мелочь), отсутствие четвертой стены, актеры практически всегда находятся в общении со зрителем - все это вырабатывало особую манеру игры и драматургию. Многие эпизоды выстраивались по контрастности, а точнее, по их стремительной смене, за счет чего достигались драматические эффекты. «Сценическое действие проходило в постоянной смене площадок, на которых находились актеры. Из речей действующих лиц или посредством реквизита публика узнавала, где происходит действие: во дворце, в спальне, на крепостной стене и т. п.» (Аникст, 1960: 600). Практическое отсутствие декораций диктовало актеру особую манеру игры: пластика и ораторское мастерство ставились во главу угла. Актер в совершенстве владел дикционными и декламационными приемами. Его речь могла быть патетически возвышенной и прозаически наполненной грубостью.
Таким образом, актеры не изображали жизнь, а осмысляли ее посредством пересказа. Такая манера исполнения пьес У. Шекспира вряд ли могла сохраниться в XIX в. в России и за рубежом. Продиктована данная ситуация несколькими аспектами.
Практически все театры используют как игровое пространство сценическую коробку (см. устройство современного театра). С периода классицизма сцена требует полноценных декораций, меняется актерская игра. Во времена У. Шекспира все роли играли мужчины, а теперь на сцене мы можем лицезреть женщин, а значит, происходит переосмысление женских образов, в спектаклях возникают эротические мотивы.
Переход от классицизма к романтизму дает новый взгляд и оценку драматургии У. Шекспира. «Было доказано, что хотя пьесы Шекспира не соответствуют канонам классицизма, но они воплощают правду жизни с наивысшей художественной силой» (Аникст, 1960: 607). Романтики считают, что художественная сила У. Шекспира в его поэтической правде, и эта правда необязательно должна совпадать с повседневностью. Герои пьес эпохи Возрождения, воплощенные на сцене, переживали разные метаморфозы: «в театре периода Реставрации они - выразители дворянского индивидуализма, у просветителей-классицистов - носители гражданских принципов, у просветителей-реалистов - воплощение человека как нравственной личности, поддерживающей или отрицающей просветительскую мораль, у сентименталистов и штюрмеров - индивидуалисты-бунтари» (Аникст, 1960: 606).
Подача пьес английского драматурга на российской сцене в начале XIX в. не отличалась от общих мировых тенденций. Веяния в искусстве - выкристаллизовывающийся романтизм - не могли не наложить отпечаток на постановку пьес великого драматурга.
В январе 1837 г. в Москве играли «Гамлета», в главной роли - Павел Степанович Мочалов. Перевод с оригинала сделал Н.А. Полевой. В.Г. Белинский определил его как поэтический, но не художественный (1953б: 426). Его перевод, по меткому замечанию Л.С. Артемьевой (2014: 94), - это не трагедия и даже не драма, а больше напоминает мелодраму. Н.А. Полевой пытался вернуть пьесе романтизм. Сцены с внутренними переживаниями Гамлета были существенно сокращены или отсутствовали. На первый план выведен только мотив мести. Некоторые явления были объединены, чтобы осветить основной конфликт, а персонажи - редуцированы, если, по мнению Н.А. Полевого, не несли смысловой нагрузки (более подробно изложено в статье Л.С. Артемьевой «“Гамлет” в переводе Н.А. Полевого: проблема переводческой интерпретации жанра» 2014 г.). Можно заключить, что перевод Н.А. Полевого далек от оригинала и носит субъективный временной характер.
Итак, движущей силой постановки являются веяния романтизма. Основой данного направления становятся силы, независящие от воли человека, но полностью формирующие будущность человека, – история и природа!
Постановки меняют специфику относительно классицизма (классицизм – единство времени, места и действия) и включают в себя историческую, этнографическую, географическую направленность. Сцена расширяется как в пространственном, так и во временном контексте. Декорации – это не фон, а образ, иногда даже превалирующий над самой драматургией.
В спектакле «Гамлет» 1837 г. в Санкт-Петербурге, где заглавную роль сыграл В.А. Каратыгин, например, использовали музыкальный ряд, что было новшеством для драматического театра. Игра самого Василия Андреевича соответствовала тому переходному периоду, в рамках которого осуществлена постановка «Гамлета» (перевод Н.А. Полевого). В.А. Каратыгин был представителем «классической школы» (речь идет о манере игры, присущей классицизму, – свои правила, требования поведения на сцене) актерского мастерства, где придавалось огромное значение внешней эффектности: выразительная декламация, выверенные жесты. Гамлет В.А. Каратыгина был подчеркнуто благороден, трагичен и театрален, герой-романтик, борющийся с судьбой и внешними обстоятельствами. Сдержанная и рациональная игра В.А. Каратыгина делала его Гамлета эмоционально пафосным, но не искренним. Критики, включая В.Г. Белинского, отмечали, что его исполнение было слишком формальным и не передавало всей сложности шекспировского героя.
Эволюционная смена общественной формации требовала смены или изменения подхода в постановочном процессе и актерской игре. Доказательством может служить Гамлет-Мочалов (1837 г., Москва), которого можно отнести к актерам новой формации. Его игра акцентирована на эмоциональной искренности и спонтанности. Его Гамлет становится страстным, эмоциональным, импульсивным. Гамлета как человека разрывают внутренние противоречия. Эмоциональный ряд бурный и непредсказуемый, что делает образ более живым и драматичным, проявляются признаки психологического театра. Образ Гамлета, созданный П.С. Мочаловым, более близок зрителю, так как соответствует изменениям, происходящим в обществе, и дальнейшему развитию направления в искусстве – реализму.
Игра В.А. Каратыгина и П.С. Мочалова в роли Гамлета – это два разных подхода к интерпретации шекспировского героя. Эти два исполнения стали символами разных эпох и театральных школ, и их сравнение помогает понять, как менялось восприятие У. Шекспира в русской культуре.
Возрождение, классицизм, Просвещение и в какой-то мере романтизм имели постепенное развитие и продолжительный период формирования, который позволял осмыслить процессы, происходящие в искусстве.
С конца XIX в. происходили резкие изменения в мире, в искусстве появлялись новые формы, жанры и даже новые виды искусства. Теоретики не успевали за практиками. Драматургия переживала кардинальную перестройку, примером чего может служить появление понятия новой драмы, ярким представителем которой стал А.П. Чехов. Конечно, усложнение жизненных процессов порождало возникновение новых проблем, которые требовали осмысления в том числе средствами искусства, в частности с помощью драматургии.
В связи с этим творчество У. Шекспира в русской культуре конца XIX – начала XX в. подверглось глубокому и многогранному осмыслению. В это время У. Шекспир стал важной частью русской культурной идентичности. Его произведения анализировали философы и литераторы.
Русский философ В.С. Соловьев видел в У. Шекспире глубокого мыслителя, который исследует вечные вопросы бытия. В своих работах В.С. Соловьев подчеркивал, что У. Шекспир показывает борьбу добра и зла в человеческой душе (Соловьев, 1991: 180–181). М.М. Бахтин в трудах о карнавальной культуре отмечает, что трагедии У. Шекспира сочетают высокое и низкое, трагическое и комическое (Бахтин, 1990).
А.П. Чехов в пьесе «Чайка» 1896 г. прямо отсылает к «Гамлету», а его персонажи обсуждают шекспировские темы. Он оценивал У. Шекспира как мастера погружения в глубину человеческих характеров1. Л.Н. Толстой в статье «О Шекспире и о драме» 1903 г. открывает дискуссию о роли искусства и морали2. А. Блок в темах трагической любви и рока часто использует шекспировские мотивы.
Переосмысление шекспировских пьес происходило и на театральных подмостках. В конце XIX в. в основу театрального искусства ложится психологический реализм, почитателем и основоположником которого являлся К.С. Станиславский. МХТ (1898 г., детище К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко) в начале XX в. дважды обращался к пьесам У. Шекспира: в 1911 г. – постановка пьесы «Гамлет», в 1930 г. – «Отелло». В.Г. Белинский писал: «Что такое сценическое искусство? – Как всякое искусство, оно есть творчество. Теперь: в чем же заключается творчество актера, которого талант и сила состоят в умении верно осуществить уже созданный поэтом характер?» (1953а: 304). «Время вдруг переломилось; раздался хруст костей» – начало XX в. в России ознаменовалось чередой трагических событий, что не могло не найти отражения в искусстве в целом и в театре в частности.
В постановке МХТ 1911 г. Гамлет из героя-романтика превращается в духовно сильную личность. На первый план выходит трагизм данного образа, через свою жертву приносящего очищение. Тюрьма – это не Дания, тюрьма – весь мир. Этот мир колеблется и находится в постоянном движении. Для реализации идеи постоянного движения Г. Крэг, один из постановщиков «Гамлета» (был приглашен К.С. Станиславским, но в итоге их творческий союз не сложился), предлагает создать условное пространство, что для постановок того времени являлось новшеством. «Мир, который колеблется от каждого шага и каждого слова принца датского, виделся ему отчетливо и ясно» (Шекспировские чтения…, 1981: 123).
Г. Крэг считается реформатором и новатором театра. Например, его идея о том, что только триединство – мысль поэта, личность актера и воля режиссера – дает возможность появления полноценного образа, существующего поверх реального текста, была подхвачена К.С. Станиславским, который на практике доказал верность этого суждения. Роль Гамлета в постановке 1911 г. сыграл Василий Качалов, который после ее исполнения получил прозвище «русский Гамлет».
Еще одна интересная постановка театра МХТ, которую можно рассматривать с точки зрения постановочных эволюционных процессов, связанных с пьесами Шекспира, – «Король Лир» (режиссер Б.М. Сушкевич).
20-е годы XX в. обозначены творческими людьми как время преодоления и покорения У. Шекспира. После Первой мировой войны и Гражданской войны (говорим о России) возникает новое понимание роли искусства и действительности в целом. Эта действительность начинает диктовать другие правила.
Рассматривать У. Шекспира в чистом театральном контексте становится невозможно. Если убрать исторический контекст и обобщенное философское осмысление текстов У. Шекспира, выйдет пародия, которой славилась, например, английская сцена того же периода: «…пародия в английской культуре того времени расцвела невиданно, – пишет А.В. Бартошевич (2002), – как, впрочем, и в культуре других европейских стран». Справедливости ради отметим, что процессы связаны с отрицанием и желанием избавится от кумиров Викторианской эпохи.
Темой спектакля стала судьба Лира (исполнитель роли И.Н. Певцов): очищение и перерождение. Основная концепция постановки была построена на идее трансформации личности Лира. Режиссер стремился показать эволюцию героя от деспотичного правителя до человека. Трагедия Лира трактовалась как крушение индивидуализма. Подчеркивалась связь личной трагедии героя с общественными проблемами. Делался акцент на пробуждении человечного начала в герое после отказа от власти. И.Н. Певцов успешно разрушил образ старого деспота, однако не смог в полной мере создать новый образ преобразованного героя.
Идея крушения индивидуализма как основная драматургическая линия была присуща данному времени (связана с общественной трансформацией после революционных событий).
Следует отметить, что постановки пьес У. Шекспира в начале XX в. связаны с новым этапом в развитии шекспировского репертуара, демонстрируя новый подход к трактовке классической трагедии через призму социально-философских проблем. При этом в XIX в. в России существовал особый подход к постановкам У. Шекспира:
– романтизм и реализм в изображении характеров с акцентом на народности;
– тенденция «национализации» пьес У. Шекспира – вопросы переводов и приближение к русской национальной традиции;
– возникновение «шекспиризма», «гамлетизма» – модной философии того времени.
За основу брался романтический герой со своими переживаниями, борющийся с общественной несправедливостью. Подчеркивалось благородство и всечеловеческая скорбь героя.
В начале XX в. произошел коренной перелом в подходе к пониманию и освоению драматургического наследия У. Шекспира. На первый план вышла трагедийно-философская концепция образов. Поднимались вопросы веры в человека и надежды на изменение жизни к лучшему.
Таким образом, если в XIX в. преобладал подход адаптации и «русификации» У. Шекспира, то в начале XX в. произошло существенное изменение – от простого заимствования к глубокому осмыслению и изучению творчества драматурга, его влияния на различные виды искусства. Появилось понимание универсальности его произведений, их философской глубины и значимости для мировой культуры.
Нам пришлось намеренно сделать краткий вывод по периоду XIX в. – 1930-х гг., так как в это время закладывались основные фундаментальные философские и эстетические взгляды на творчество великого английского драматурга У. Шекспира.
Следующий период постижения У. Шекспира в России можно назвать советским. Рассмотрим промежуток с 1950-х по 1990-е гг. 1950-е годы стали переломными в истории СССР. Страна преодолевала последствия страшной войны. В 1953 г. умер И. Сталин, сменилось политическое руководство, которое подвергло глобальной критике деятельность предыдущей правящей элиты. Наступили времена так называемой оттепели. Все это не могло не найти отражение в культурной жизни государства, в том числе театральной.
В 1954 г. сразу два театра показывали «Гамлета». Отметим, что с 1930-х по 1950-е гг. эта пьеса не ставилась. По слухам, она не нравилась И. Сталину из-за рефлексии и слабости главного героя. Однако, думается, это было связано с тем, что в тот период требовался другой герой – философия и искания отходили на второй план. Каждому времени нужен свой герой, а Гамлет не вписывался в парадигму бурно сменяющихся событий того времени. При этом 1950-е годы уже нуждались в осмыслении и поиске нового героя и пьеса «Гамлет» соответствовала этой парадигме.
Постановка «Гамлета» в Театре им. Маяковского в 1954 г. стала знаковым событием в театральной жизни страны, совпав с важными историческими переменами – периодом после смерти И. Сталина. Эта премьера, наряду с постановкой в Театре им. Пушкина в Ленинграде («Гамлет», 1954 г.), воспринималась не просто как театральный факт, а как важное общественное событие, символизирующее начало переосмысления ценностей и освобождение от идеологических ограничений прошлого.
Первое, на что обращалось внимание, – это оформление спектакля, которое давало четкое понимание, что «Дания – тюрьма»: низкие своды, создающие гнетущее пространство, железные ворота во всю сцену, цветовая палитра северных широт (свинцовые волны, бледное небо, туман, серость стен, использование теней, приглушенное освещение). Такое внимание к архитектурноживописному решению позволило сформировать целостный художественный образ, который усиливал драматическое воздействие спектакля и помогал зрителю глубже понять философскую проблематику произведения. Сценическое оформление стало не просто декорацией, а полноценным участником драматургического действия.
Противовес у Н.П. Охлопкова (режиссера спектакля «Гамлет» в Театре им. Маяковского 1954 г.) возникает в костюмах персонажей. В той мрачной обстановке Гамлет-Самойлов (исполнитель роли Гамлета – Е.В. Самойлов) появляется в золотом парике и белом одеянии, проводя параллель между миром тюрьмы и благородством принца. Под стать костюму принца и облачение Офелии-Бабановой (первая исполнительница роли Офелии – М.И. Бабанова) – белое платье с позолотой и золотой парик, а за ней выбегают ее подруги тоже в белых платьях с золотыми кудрями и арфами. Художником выступил В.Ф. Рындин.
Акцент был сделан режиссером на контрасте между свободолюбивой натурой Гамлета и угнетающей средой. Центральной дилеммой Гамлета становится выбор между смертью и победой. Режиссерское решение Н.П. Охлопкова было основано на реализации сложных философских идей зримым и простым языком. Поднимается вопрос: можно ли оставаться свободным в стенах тюрьмы и к чему приведет это противостояние?
Второй «Гамлет» в 1954 г. возник на берегах Невы в театре им. Пушкина под руководством Г.М. Козинцева. Спектакль Григория Козинцева отразил особое состояние общества того времени, когда страна переживала «гамлетовский момент» своей истории. Это было время мучительного переосмысления исторической судьбы, когда люди сталкивались с необходимостью принять страшную правду о недавнем прошлом, осознать масштабы иллюзий и обманов.
Философский и культурный смысл этой постановки заключался в отражении процесса взросления послевоенного поколения, его стремления к нравственной переоценке ценностей. Гамлет в этой интерпретации представал как человек, который внезапно открывает для себя жестокую правду о мире и приходит в отчаяние. Эта постановка стала важной вехой в развитии российского театра, символизируя переход от идеологически прямолинейных интерпретаций к более глубокому осмыслению человеческой природы и социальных противоречий. Она заложила основу для последующих философских прочтений трагедии У. Шекспира, которые получили развитие в последующие десятилетия.
Г.М. Козинцев использовал поэтический и более трагический перевод Б. Пастернака. Сонет был представлен в переводе С.Я. Маршака. Есть утверждение, что первый перевод пьесы «Гамлет» У. Шекспира Б. Пастернак делал для Вс. Мейерхольда, который всю жизнь мечтал поставить своего «Гамлета». Музыка Д. Шостаковича, которую, нужно отметить, композитор писал тоже для Вс. Мейерхольда, была переделанным вариантом, использованным Н. Акимовым в своей постановке «Гамлета» (1932 г.).
Главную роль в спектакле Г.М. Козинцева исполнил Б.А. Фрейндлих, чья интеллигентность резонировала с духом времени, а герой находился в конфликте с несовершенным миром. «Дания – тюрьма» прослеживается и в этой постановке как дань времени. Г.М. Козинцев не мудрствует: Гамлет – рефлектирующий герой, Офелия (Н.В. Мамаева) – невинная жертва, Клавдий (К.В. Скоробогатов) – символ порочного общества.
Г.М. Козинцев также уделил внимание вопросу костюмов. Художником-постановщиком в том спектакле выступил Н.И. Альтман. Вот как он описывает решение сцены сумасшествия Офелии: «Необыкновенно роскошное и пышное придворное платье, с которого Офелия постепенно срывает все, что ей мешает и в чем ей неудобно (какое-то невероятное сооружение с головы, ожерелья и браслеты и прочее), сходит с туфелек на высоких каблуках – и, в итоге, оказывается в каком-то совсем простом, мило девичьем платьице (может быть, какой-то отстегивающийся шлейф?). Продумать все это таким образом, чтобы снималось все тяжелое, орнаментированное – и осталось простое, вероятно белое»1.
Главный герой трагедии Гамлет – образованный человек, увлекающийся наукой и искусством. Н.И. Альтман характеризует жилище Гамлета следующим образом: «Келья поэта, ученого, художника»2. Внешний облик Гамлета по замыслу Н.И. Альтмана должен резко контрастировать с окружающей его пышной роскошью и величием: «Очень простой, траурный костюм. Вероятно шерстяной. Плащ, в который можно закутаться (для сцены с призраком). Шпага и кинжал. Род берета. Миниатюра с портретом отца»3.
Художник ориентировался на конкретного актера, которому предстояло играть роль в спектакле. Зная, что роль Гамлета будет исполнять Б.А. Фрейндлих, которому в 1954 г. исполнилось 45 лет, а возраст Гамлета, как следует из сцены с могильщиками, был около 30, Н.И. Альтман делает следующее примечание: «Принять во внимание, что арт<иста> Фрейндлиха нужно сделать помо-ложе4. Таким образом, в спектакле Г.М. Козинцева тоже отразился романтический флер «Дания – тюрьма», но все вокруг было красиво и эстетично. Гамлет борется за справедливость с фантомами прошлого, вот пример финальной сцены спектакля Г.М. Козинцева: «Спектакль Козинцева кончался так: умирал Гамлет, потом вдруг сцену заливал ослепительный голубой свет, и на фоне ослепительно голубого задника возникала фигура Ники Самофракийской. И вставал мертвый Гамлет, выходил на авансцену к публике и читал 74-й сонет: “Когда меня отправят под арест / Без выкупа, залога иль отсрочки, / Не глыба камня, не могильный крест / Мне памятником будут эти строчки”. То есть все понятно: Гамлет умер, но искусство бессмертно и так далее»5.
На этом фоне примечательно обратить внимание на две постановки английского режиссера Питера Брука. В 1955 г. он привез «Гамлета» в Москву, и эта постановка, а также (забегая вперед, скажем) постановка «Короля Лира» 1962 г. сыграли огромное значение в постановочном процессе и восприятии У. Шекспира в России.
Но вернемся к «Гамлету». Художником в данной постановке выступил Ж. Вакевич, который положил в основу спектакля принцип аскетизма. «В “Гамлете” – единая установка с немногими меняющимися деталями (принцип оформления, который во Франции к тому времени уже ввел Жан Вилар и который вскоре стал широко использоваться в Англии). В декорации Жоржа Ваке-вича нет самостоятельной ценности, и она не располагает к зрелищности, к созерцательному любованию. Она концентрирует действие, упорно направляя его к середине сцены. Влекущиеся друг к другу своды соединяются где-то вверху, мы не видим, но чувствуем точку этого соединения. Взгляд едва скользит по этим серым, плохо освещенным стенам и, отталкиваемый ими, неизменно обращается к центру сценической площадки. Декорации Жоржа Вакевича помогают зрителю сосредоточиться» (Бартошевич, 1994). У П. Брука в целом прослеживается тенденция очистить сцену от всего лишнего. Однако костюмы в данной постановке режиссер использует, опираясь на елизаветинскую эпоху.
Гамлет, которого играет Пол Скофилд, стоит перед непреодолимой дилеммой: как отомстить и не запятнать при этом своей души? Гамлет как зрелый человек находит решение, но, очистив Данию от гнили, себя от нее не уберегает. Гертруда изначально влюблена в Клавдия и никогда не любила отца Гамлета, отсюда жесткий, почти циничный разговор Гамлета с матерью.
Вообще Гамлет-Скофилд много размышляет о себе и своих близких. В спектакле П. Брука был особый нерв, который выстраивался на «судорожных» ритмических рисунках. Стремительный ритм спектакля тянул за собой. В драматургии У. Шекспира режиссер выдвигает на первый план моральные конфликты, трактуя их в духе интеллектуального абсурдизма С. Беккета и связывая с эстетикой эпического театра Б. Брехта.
На этой основе П. Брук создает спектакли, ставшие каноническими для трагического театра XX в. Особенно это проявилось в постановке «Короля Лира» 1962 г. В ней П. Брук выступил и режиссером, и художником-постановщиком. Мир Лира – пустое, выжженное пространство, сзади ограниченное тремя свисающими полосками ржавеющего железа, два бревна с зубьями. П. Брук полностью оголяет и высвечивает рассеянным светом сцену, оставляя место только человеческим страстям. Герои одеты в грубые рубахи и кожаные плащи.
Режиссер намеренно идет через «эффект отчуждения», отдаляя от нас эпохи, в которой происходят события, но тем сильнее выявляя параллели с современностью. В мире, созданном П. Бруком, у персонажей нет нейтральных состояний – есть только владыка – раб, гонитель – гонимый. Вот Лир был королем, а вот он – нищий, нагой и борется с бурей, как Дон Кихот с мельницей. Такой жестокий и детерминированный мир не вызывает страха, а требует непосильного внимания, снимая с пьесы романтический пафос.
Действие нарочито замедленное и сосредоточенное. Герои не живут обманчивыми надеждами и не просят у судьбы снисхождения. Все предопределено. «В спектакле Питера Брука трагические герои находятся в ситуации изначально заданной, существующей задолго до того, как они собираются принять то или иное решение» (Бартошевич, 1994). Но эта предопределенность нужна П. Бруку, чтобы до крайности обнажить отношения между людьми: жестокость, страх, отчаяние соседствуют с состраданием, любовью и человечностью. Человек – сосредоточие всех этих качеств.
Одна из сцен, где это проявляется, – встреча слепого Глостера (А. Уэбб) и Лира (П. Скофилд). Рыдающий Глостер снимает своему королю сапоги, а Лир, бережно обнимая седую голову своего товарища, предлагает ему взамен свои глаза. Сцена происходит где-то в поле, жизнь сталкивает двух товарищей в крайней степени беззащитности и человеческой заброшенности.
П. Брук через простоту и условность обнажает жестокость мира, почти лишенного надежды, но вместе с тем поет гимн человечности, состраданию, любви в широком ее понимании. Или, если уточнить формулировку: человеком в этом жестоком мире можно стать только через нечеловеческие страдания. Концепцией постановки становится отрицание.
Спектакли П. Брука по пьесам У. Шекспира оказали огромное воздействие на постановщиков того времени. Вот что писал Г.М. Козинцев: «Джон Гилгуд, Лоуренс Оливье, Поль Скофилд (в прекрасной постановке Питера Брука), которого мы недавно видели во время московских гастролей, раскрывали совсем иные свойства героя трагедии» (1973: 165). Л. Додин отмечал, что «это было совсем не похоже на советский театр, который я тоже любил. Брук всегда шел намного впереди того, что называлось новаторством»1.
Влияние спектаклей П. Брука отразилось и на режиссере Ю. Любимове. В Театре на Таганке в 1971 г. он ставит своего знаменитого «Гамлета» с актером В. Высоцким в главной роли. Первое, на что заставляла обращать внимание эта постановка, – лаконичность оформления (Д.Л. Боровский), простота в костюмах – вязаные шерстяные свитера и джинсы, а один из «главных актеров» – занавес, как у П. Брука ржавые металлические щиты. Занавес символизировал рок и жил независимой жизнью, почти не обращая внимания ни на кого, если ему нужно, сметая все на своем пути. Полная перекличка с бруковским «Королем Лиром».
Для Ю. Любимова становится важным, чтобы Гамлет не думал о том, убить или не убить, а думал, как трудно жить, если ты одинок. У Гамлета в исполнении В. Высоцкого нет сомнений. Человек с гитарой встречает нас еще до начала спектакля (правда, не все его сразу замечают), он сидит молча у грубой кирпичной стены и наблюдает за всеми входящими, а когда все расселись, встает и под гитару мелодекламирует стихотворение Б. Пастернака «Гамлет», которое настраивает всех на нужный лад: «Жизнь прожить – не поле перейти»2.
И возникает Гамлет-рупор, поэт-современник, с хрипотцой в голосе, через историю прошлого вскрывающий и обнажающий человеческие взаимоотношения сегодняшнего дня. Монтированный монолог «быть или не быть» утверждает – быть и быть человеком в этом сложном, запутанном и непредсказуемом мире. Здесь нет места сомнениям.
Итак, если сделать краткий вывод, можно говорить о том, что 30–40-е гг. XX в. – это сильные личности с оттенками романтизма и декламационным стилем подачи материала. Театральная эстетика стремится к «конкретному историзму».
В 1950–1960-е гг. происходит перелом: театр начинает заниматься непосредственно человеком и его внутренним миром. Идет поиск точных психологических рисунков. Речь упрощается и обытовляется.
С 1960-х по 1980-е гг. наблюдается тенденция раскрытия человеческого бытия в многообразном мире. По этому поводу А.В. Бартошевич указывает: «Гамлету, Ромео, Лиру приходится выяснять отношения с уже сложившимся миром. Они должны выбрать: идти с ним на соглашение или восстать против него» (2014: 461).
В заключение отметим, что изучение постановок У. Шекспира в России позволяет проследить трансформацию интерпретации творчества английского поэта и драматурга:
-
– XIX в.: романтизация героя, поиск «русского Шекспира» через призму пушкинского «шекс-пиризма»;
-
– начало XX в.: эксперименты МХТ, синтез психологизма и условного театра;
-
– советский период: от идеологических запретов 1930-х гг. до философского гуманизма оттепели.
К середине XX в. трагедии У. Шекспира окончательно вошли в золотой фонд русского театра, доказав способность отвечать на вызовы любой эпохи.