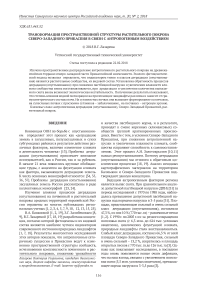Трансформация пространственной структуры растительного покрова Северо-Западного Прикаспия в связи с антропогенным воздействием
Автор: Лазарева Виктория Георгиевна
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Общая биология
Статья в выпуске: 2-1 т.20, 2018 года.
Бесплатный доступ
Изучено пространственное распределение антропогенного растительного покрова на древнекаспийских террасах северо-западной части Прикаспийской низменности. Эколого-фитоценотический подход позволил определить, что индикатором типов и классов деградации (опустынивания) являются растительные сообщества, их видовой состав. Установлена обратимость процессов деградации (опустынивания): при снижении пастбищной нагрузки и увеличении влажности климата сообщества вновь восстанавливаются, при аридизации и увеличении количества выпасаемого скота вновь возникает экологическая нестабильность. Полученные результаты показывают, что степень влияния водной мелиорации на прилегающие ландшафты различна и зависит от гранулометрического состава почв. На суглинистых почвах она вызывает формирование солончаков, на супесчаных почвах с прослоями суглинков - заболачивание, на песчаных - ветровую эрозию.
Антропогенная деградация (опустынивание), северо-западный прикаспий, растительный покров
Короткий адрес: https://sciup.org/148205427
IDR: 148205427 | УДК: 631.445.52
Текст научной статьи Трансформация пространственной структуры растительного покрова Северо-Западного Прикаспия в связи с антропогенным воздействием
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием определяет этот процесс как «деградацию земель в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате действия различных факторов, включая изменение климата и деятельность человека» [13]. Проблема деградации (опустынивания) привлекает внимание исследователей, как в России, так и за рубежом. В начале 21 века появились крупные обобщающие труды, с акцентом на флуктуации климата как фактора, вызывающего деградацию земель. К числу основных монографий относятся: [34, 35, 36, 37]. Проблемы деградации (опустынивания) засушливых земель России рассмотрены в ряде коллективных монографий [23, 24].
Изучение влияния процессов деградации (опустынивания) на почвенный и растительный покровы аридных территорий европейской России отражены во многих публикациях региональных ученых [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 25].
и качества пастбищного корма, и в результате, приводят к смене коренных (климаксовых) сообществ группой кратковременных производных. Вместе с тем, в условиях Северо-Западного Прикаспия, при снижении антропогенной нагрузки и увеличении влажности климата, сообщества сохраняют способность к самовосстановлению. Этот процесс А.Н. Золотокрылин [10,11] назвал реопустыниванием. Поэтому деградацию (опустынивания) мы относим к обратимым циклическим процессам [18, 19]. Анализ исходных картографических материалов на территорию Калмыкии и Северо-Западного Прикаспия подтверждают данную концепцию.
Ведущим антропогенным фактором региона является выпас скота. При сравнительном анализе допустимой пастбищной нагрузки (ДПН) [31] за период исследований с 1970 по 1988 годы, наблюдалось превышение допустимой пастбищной нагрузки над нормами нагрузки в 3-5 раза [31]. Площади, представляющие сильный и очень сильный класс деградации (опустынивания), составляли 47,3 %, из них 10 % (770 тыс. га) – развеянные пески [1, 2]. С 1990 г. по 2005 г. из-за резкого сокращения поголовья скота (с 6,3 млн. до 624 тыс. условных овцеголов), циклических флуктуаций климата, природные ландшафты стали восстанавливаться. Слабый класс деградации, составил 66,3 % от всей площади Северо-Западного Прикаспия, сильный и очень сильный – 13,2 %, сократилась и площадь открытых песков с 770 тыс. га до 126 тыс. га [3]. Однако как показывают исследования, в последние годы вновь появляются новые очаги дефляции, что на наш взгляд, связано с увеличением поголовья скота (5,5 млн. условных овцеголов), превышающее нормы нагрузки в 3-3,5 раза [3].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За время многолетних исследований (1987, 1990-2015 гг.) проведены комплексные обследования древнекаспийских террас Северо-Западного Прикаспия, в ходе которых изучены закономерности их растительного покрова, прослежена динамика процессов деградации (опустынивания), определены особенности их развития.
Северо-Западный Прикаспий – это часть Прикаспийской низменности, которая находится между возвышенностью Ергени на западе и рекой Волга на востоке. Объектом исследования является растительный покров степной и пустынной зон древнекаспийских террас (новокаспийская, позднехвалынская и раннехвалын-ская) северо-западной части Прикаспийской низменности.
В ботанико-географическом отношении исследуемая территория лежит в пределах степной и пустынной зон [16, 30]. Степная часть входит в южную подзону степной зоны и представлена самыми опустыненными ксерофитны-ми полынно-типчаково-ковыльными ( Stipa spp., Festuca valesiaca, Artemisia lerchiana ) фитоценозами [28, 29]. Прикаспийские пустыни относятся к северной подзоне пустынной зоны и характеризуются полукустарничковыми ксерофит-ными лерхополынниками ( Artemisia lerchiana ), образующими комплексы с чернополынниками ( Artemisia pauciflora ) на солонцах [17, 18, 19].
Обследования территории производились маршрутным методом. Геоботанические исследования осуществлялись на модельных полигонах с применением наземных и дистанционных методов, расположенных на древнекаспийских террасах разного геологического возраста. Всего выполнено свыше 2700 геоботанических описаний. Изучение и определение основных закономерностей деградированных экосистем производилось с использованием методик, разработанных FAO/UNEP, института Пустынь АН Туркменистана [32, 33], других трудов [1, 4, 6].
Современным методом мониторинга и картографирования процессов опустынивания послужили Данные Дистанционного Зондирования, обработанные при помощи ГИС - программы MapInfo 6.0, преобразование космических снимков осуществлялось в программе ArcGIS 9.3. Для определения воздействия деградации (опустынивания) на окружающую среду были использованы космические образы Landsat. Для визуальной интерпретации свойств ландшафтов, их сезонной динамики, изменений под воздействием природных и антропогенных факторов применялись комбинации каналов Landsat TM/ETM+. Установлено, что в условиях Северо-Западного Прикаспия наиболее инфор- мативными при дешифрировании растительного покрова являются цветовые комбинации каналов 3, 2, 1 (естественные цвета) и 4, 3, 2 [25].
Методом эколого-динамического профилирования определены особенности пространственного распределения растительности под влиянием выпаса скота и водной мелиорации [4]. Антропогенные факторы деградации по своему происхождению разделены на две группы: биогенные и техногенные. Первая группа (биогенные) включает последствия пастбищной дигрессии, вторая (техногенные) - последствия строительства и освоения мелиоративных систем, разведки и добычи полезных ископаемых, распашки и т.п. При воздействии первых деформируется или уничтожается почвенный и растительный покровы, при вторых - разрушаются почвообразующие породы и даже подземные воды.
В качестве индикатора классов и типов деградации (опустынивания) нами определены не отдельные виды растений, а сообщества, в которых они господствуют. По мере нарастания дигрессии происходит трансформация рядового компонента сообщества в его доминант (или наоборот). В зависимости от очага деградации (опустынивания), сообщества-индикаторы образуют ряды, компоненты которых сменяют друг друга не только во времени, но и в пространстве. Это позволяет соотнести эколого-динамические ряды с экологическими факторами [4, 26]. При пастбищной дигрессии они придают этому процессу характер плавности, постепенности, что затрудняет индикацию и требует подробного профилирования. При мелиорации в зоне влияния каналов наблюдается галогидрофитизация растительного покрова. В настоящей статье в качестве примера рассмотрены почвенный и растительный покровы полигонов «Приергенинский», «Цаган-Аманский», «Лаганский», «Джалыково», «Ракуши», расположенные на позднехвалынской и новокаспийской террасах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Главной особенностью Прикаспийской низменности являются колебания уровня Каспийского моря. Особенно значительными они были в четвертичном периоде, сформировав три древнекаспийские террасы: раннехвалынскую, позд-нехвалынскую и новокаспийскую. Растительный покров террас отражает сукцессионную направленность развития всего Прикаспия. По побережью Каспийского моря, солёным озёрам в зависимости от степени увлажнения мы выделяем экологические уровни, соответствующие поясному распределению сообществ: гидроморфному, полугидроморфному, автоморфному. Они формируют эколого-динамические ряды [4, 18, 26].
Новокаспийская терраса выделяется по побережью Каспия с абсолютными отметками от -21 до -28 м над уровнем моря. Здесь, в условиях колебания уровня моря, сгонно-нагонных явлений формируются гидроморфный и полугидроморф-ный пояса с лугово-болотной растительностью, отражающей начальные стадии сукцессионного процесса.
Позднехвалынская терраса занимает центральную и южную части Северо-Западного При-каспия. Возраст ее континентального становления составляет 9-11 тыс. лет, с абс. отметками от -5 до +20 м над уровнем моря. На равнинах развиты автоморфные бурые почвы, местами в комплексе с солонцами. В растительном покрове господствуют прикаспийские северные злаково-полукустарничковые пустыни, в южной и юго-восточной части – гемипсаммофитные и псаммофитные варианты на супесчаных и песчаных почвах. Местами на фоне мятликово-лерхополынных ( Artemisia lerchiana, Poa bulbosa ) пустынь на мелких и корковых солонцах встречаются чернопо-лынники ( Artemisia paucifl ora ) [27, 17].
Раннехвалынская терраса занимает северную окраину Прикаспия. Ее возраст составляет примерно 16-18 тыс. лет, с абс. отметками от +48 до +50 м над уровнем моря. Здесь распространены светлокаштановые почвы, занятые прикаспийскими южными полынно-дерновиннозлаковы-ми опустыненными степями, часто образующими комплексы с полукустарничковыми галофитными ценозами на солонцах: корковых, средних и мелких [27]. Зональная растительность поздне- и раннехвалынских террас формирует автоморфный экологический пояс.
Следовательно, растительность древнекаспийских террас Северо-Западного Прикаспия представляет собой сукцессионный ряд, начинающийся на побережье Каспия от плавневых и лугово-болотных сообществ и гипергалофит-ных пустынных ценозов в озёрных депрессиях, далее следуют пустынные мятликово-лерхо-полынные ценозы, произрастающие на бурых почвах, которые сменяются в пространстве полынно-дерновиннозлаковой степной растительностью на автоморфных светлокаштановых почвах. Она является заключительной стадией формирования растительного покрова в регионе исследования. На их фоне встречаются растительные сообщества, находящиеся на разных стадиях сукцессионного процесса. Ход природных сукцессий осложняется влиянием антропогенных факторов.
Пастбищная дигрессия на позднехвалынской террасе
Результаты исследований показывают, что антропогенные воздействия замедляют ход при- родных сукцессий и ведут, в одних случаях – к деградации, в других – к полному уничтожению растительного покрова.
Калмыкия – животноводческая Республика, поэтому главным типом антропогенной деградации (опустынивания) является пастбищная дигрессия. Впервые она была описана в 1915 г. Г. Н. Высоцким и рассматривалась им как экзогенная сукцессия регрессивного типа. Нами, в качестве индикатора классов пастбищной дигрессии определены сообщества, в которых доминируют растения-индикаторы. Были прослежены особенности развития пастбищной дигрессии на суглинистых и песчаных почвах позднехвалынской террасы. В её западной части доминируют суглинистые, в южной и юго-восточной – бурые почвы. В западной части региона исследования проводились у подножья возвышенности Ергени на Яшкульском полигоне. В результате построения геоботанических карт полигона был создан ГИС – макет карты растительности в программе MapInfo Professional 6.0. Векторные слои ГИС – макета включают: почвенный покров, растительные сообщества, урожайность, стадии пастбищной дигрессии. Показания GPS полигона: Х – 45.243477 Y – 46.102632. Зональный растительный покров представлен злаково-лерхополынными полукустарничковыми ( Artemisia lerchiana, A. paucifl ora, Poa bulbosa, Stipa lessingiana, S. sareptana, Festuca valesiaca, Agropyron desertorum ) пустынями в комплексе с чернополынными ( Artemisia paucifl ora ) и полынными ( Artemisia taurica ) комплексами. В период с 1970 по 1990 гг. хозяйственное состояние растительности соответствовало стадиям сильного и очень сильного сбоя. В травостое господствовали чернополынно-солянковые ( Climacoptera brachiata, Artemisia paucifl ora) и петросимониево-лерхополынно-мятликовые ( Poa bulbosa, Artemisia lerchiana, Petrosimonia oppositifolia ) сообщества . При снижении пастбищной нагрузки с 1990-2000 гг. чернополынносолянковые ( Petrosimonia oppositifolia, Artemisia paucifl ora ) ценозы трансформировались в солянково-чернополынные ( Artemisia paucifl ora, Petrosimonia oppositifolia ), что соответствует умеренной стадии сбоя. Этот же процесс наблюдался и в петросимониево-лерхополынно-мятли-ковых фитоценозах. Вместе с тем, в травостое увеличилось обилие прутняка ( Kochia prostrata ), ромашника ( Tanacetum achilleifolium ), полыни Лерха ( Artemisia lerchiana ), галоксерофильных солянок ( Climacoptera brachiata, Petrosimonia triandra, Lepidium ruderale ).
Полученные результаты показывают, что на суглинистых почвах позднехвалынской террасы наблюдается процесс демутации, который сопровождается увеличением обилия полукустарничков: на корковых солонцах галоксеро- фита Artemisia pauciflora, на средних - ксерофита Artemisia lerchiana с присутствием Tanacetum achilleifolium, Galatella villosa, Camphorosma monspeliaca. В настоящее время, в результате перевыпаса их обилие снижается, с одновременным увеличением роли эфемероидов, эфемеров и однолетников.
Исследования на бурых супесчаных и песчаных почвах проводились на полигоне «Цаган- Аман», где зональными являются злаково-полукустарничковые житняково-тыр-сиково-лерхополынные пустыни ( Artemisia lerchiana, Agropyron fragile, Stipa sareptana), которые в 80-х годах 20-ого столетия трансформировались в очень сильный эфемерово-эфемеро-идный сбой с участием тырсика ( Stipa sareptana) и развитием бугристых песков. В дальнейшем, снижение пастбищной нагрузки способствовало восстановлению травостоя.
Еще один пример изучения процесса демутации на песчаном массиве «Сунгруб» при длительном отсутствии выпаса скота, который находится на правом берегу р. Волга, в 12 км от районного пос. Цаган-Аман. Здесь ведущим экологическим фактором является отсутствие выпаса скота более 30 лет. В 70-е годы 20-ого столетия в регионе, в условиях высокой пастбищной нагрузки бурые песчаные почвы трансформировались в бугристые пески с редкими дернинами кияка ( Leymus racemosus) [19]. Однако, к началу 21 века ситуация изменилась, произошла активная демутация, в которой кияковые сообщества сменились кияково-тырсиково-лерхополын-ными ( Artemisia lerchiana, Stipa sareptana, Leymus racemosus ), увеличилось общее проективное покрытие, видовой состав, урожайность (45% : 17 видов : 16,5 ц/га). Единичные экземпляры кияка рассматривались уже как реликты очень сильной стадии деградации (опустынивания) прошлого века. Общими видами для сравниваемых лет были псаммофиты: Leymus racemosus, Festuca beckeri, Koeleria glauca .
Следует отметить, что процесс восстановления растительности на разных элементах песчаного массива «Сунгруб» имел свои особенности. В начале исследований в 70-е годы вершина песчаного массива была занята малолетнико-во-лерхополынными (Artemisia lerchiana, Bromus japonicus, Syrenia siliculosa) ценозами с участием Agropyron fragile. К 2010 г. травостой стал кия-ково-лерхополынно-житняковым (Agropyron fragile, Artemisia lerchiana, Leymus racemosus). Общее проективное покрытие с 8% увеличилось до 45 %. Дерновинные злаки (Leymus racemosus, Agropyron fragile, Festuca valesiaca, Stipa sareptana) составляли 67,9 % от веса укоса, полукустарнички (Artemisia lerchiana, A. arenaria, Kochia prostrata) -30,5 %, разнотравье (Syrenia siliculosa, Gypsophyla muralis) - 1,6 %. Общими видами в сравнива емые годы были: кияк (Leymus racemosus), полыни (Artemisia lerchiana, A. arenaria), житняк (Agropyron fragile), прутняк (Kochia prostrata) [19].
В межбугровых понижениях в 70-е годы на лугово-бурых почвах произрастали сообщества, где доминировали ксеромезофиты: житняк гребневидный ( Agropyron pectinatum ), подмаренник настоящий ( Galium verum ), полынок ( Artemisia austriaca ) с участием эвмезофита пырея ( Elytrigia repens ). Общее проективное покрытие составляло 20-25 %. К началу 21 века травостой стал разнотравно-житняково-полын-ным ( Artemisia austriaca, Agropyron fragile, Syrenia siliculosa , Agriophyllum squarrosum ) с доминированием мезоксерофита Artemisia austriaca , гемипсаммофита Agropyron fragile, участие псаммофитов невелико. Общее проективное покрытие увеличилось с 20-25 % до 55 %. Травостой стал более однородным и более сформированным, флористически разнообразным, общее проективное покрытие варьировало от 55% до 80%.
Следовательно, при высокой антропогенной нагрузке происходит сукцессия регрессионного типа, при низкой - демутация, подтверждающая ее обратимость при благоприятных климатических условиях. Установлено, что на суглинистых почвах позднехвалынской террасы последствия пастбищной дигрессии ведут к уплотнению верхних горизонтов почвы, увеличению степени засоления, индикатором которых является видовой состав сообществ, т.е. наблюдается деградация и галофитизация растительного покрова; на супесчаных и песчаных почвах формируется ветровая эрозия.
Влияние водной мелиорации на растительность позднехвалынской и новокаспийской террас
К антропогенным факторам деградации (опустынивания) мы также относим и техногенное воздействие. В Прикаспии из форм техногенеза наибольшее негативное влияние оказывают каналы, построенные в земляном русле, которые боковой фильтрацией, размывом дамб изменяют ПТК.
Изучалось влияние обводнительно-оросительных каналов на растительный покров суглинистых и супесчаных равнин позднехвалын-ской и новокаспийской террас.
Исследования производились на суглинистых почвах позднехвалынской террасы на полигоне «Приергенинский» методом эколого-динамического профилирования. Он расположен в центральной части Приергенинской ложбины. В начале 80-х годов, близ него был проложен сбросной коллектор Черноземельской обводнительно-оросительной системы (ЧООС). Филь- трация воды из канала вызвала подтопление, развитие вторичного засоления в почвенном покрове, повлекшее за собой изменения в растительности на прилегающих к нему территориях (табл. 1).
Наиболее значительные изменения произошли в гидроморфном поясе, представленного сведово-сарсазановыми ( Halocnemum strobilaceum , Suaeda maritima ) сообществами, которые позже сменяются сначала изреженными
Таблица 1. Экологическая матрица полигона «Приергенинский», позднехвалынская терраса
|
Глубина уровня подземных вод, м |
Степень засоления почвенного слоя 0-30 см, в % |
||||
|
Гидроморфный пояс |
Полугидроморфный пояс |
Автоморфный пояс |
|||
|
Степень засоления почв (%) |
|||||
|
Очень сильная, (более 2%) |
Сильная 1-2% |
Средняя 0,5-1,0% |
Слабая 0,25-0,05% |
Очень слабая, менее 0,25% |
|
|
0-0,5 |
Солеросово-тростниковые, тростниково-сведово-солеросовые; Солеросово-солончаковоастровые (тяжелые суглинистые отлж), сообщ. №1, 2, 3. |
||||
|
0,5-1,0 |
Солеросово-солончаково-астрово-сарсазановые; Сведово-сарсазановые (тяжелые суглинистые отлож), сообщ. №4,5. |
Ажреково-солончаковополынные (легкосугл. отлж.), сообщ. № 10. |
|||
|
1,0-2,0 |
Сарсазановая; Сарсазаново-бескильни- цевая (среднесугл. отлж), сообщ. № 6-7. |
Солончаковополынно- супротиволистносолян-ковые (среднесугл. отлж.), сообщ. № 13. |
|||
|
2,1-3,0 |
Сарсазаново-бескильницево-солончаковополынные (среднесугл. отлж.), сообщ. .№ 8. |
Бескильнецево-тамариксовые (легкосугл. отлж), сообщ. № 9. |
|||
|
3,1- 6,0 |
Франкениево-солянковосолончаковополынные (среднесугл. отлж.), сообщ. № 12. |
Острецово-солончаковополынные (среднесугл. отлж.), сообщ. № 11. |
|||
|
3 - 6 и более |
Камфоросмово-лерхополынные (среднесугл. отлж.), сообщ. № 17. |
Камфоросмово-анабазисные, ромашниково-тырсово-лерхополынные (легко- и среднесугл. отлж.), сообщ. № 18, 20. |
Мятликово-лерхополынные, мятликово-полынковые сообщ. № 15,21; Тырсово-мятликово-лерхополынные; Полынково-злаковые (средне-и легкосугл.отлж), сообщ. 16, 19. |
||
группировками тростника ( Phragmites australis ), солероса ( Salicornia europaea ), астры солончаковой ( Tripolium pannonicum ), а спустя 10 лет на их месте возникли астрово-солеросовые фитоценозы ( Salicornia europaea, Tripolium pannonicum ). Практически полностью изменился видовой состав (коэффициент их флористического сходства составил всего 14 %). В полугидроморфном поясе - галофитных лугах, на месте полынно-пырейно-ажрековых ( Aeluropus littoralis, Elytrigia repens, Artemisia santonica ) сообществ в одних случаях, возникли сарсазановые ( Halocnemum strobilaceum ), в других - бескильницевые ( Puccinellia dolicholepis ) ценозы.
Происходящие изменения обусловлены влиянием функционирующего канала, которое приводит к увеличению засоления почв с 1,1 % в 1987 г. до 5,3 % в 2014 г., к смене хлоридно-суль-фатного типа хлоридным. Более устойчивыми, в данном случае, стали лерхополынные сообщества, произрастающие в условиях автоморфного пояса на слабозасоленных почвах равнины. Вместе с тем, при сохранении доминатов в полукустарничковых фитоценозах состав эфемероидов, эфемеров, однолетних солянок непостоянен, что может быть связано с флуктуациями климата и степенью пастбищной нагрузки [20].
Новокаспийская терраса расположена на приморской песчано-солончаковой равнине. Она характеризуется сочетанием процессов гидроморфизма с высокой степенью минерализации грунтовых и морских вод, соленых подстилающих пород [7, 21]. На высоких элементах рельефа растительный покров образуют гемип-саммофитные и псаммофитные варианты злаково-полукустарничковых пустынь.
Влияние водной мелиорации изучалось на полигонах «Ракуши», «Лагань», «Джалыково». Продолжительность эколого-динамических профилей в зоне влияния каналов Каспийской обводнительной оросительной системы (КООС) составляла 1-3 км. Результаты исследований показали, что в зоне влияния каналов возникает своеобразная «комплексность» растительного покрова. На фоне слабоволнистой эфемеро-во-лерхополынной (Artemisia lerchiana, Anisanta tectorum, Lapula echinata, Alyssum turkestanicum) равнины, в виде пятен встречаются кумарчи-ковые (Agriophyllum squarrosum), тысячелистни-ковые (Achillea micrantha) сообщества с участием Leymus racemosus, Artemisia arenaria, Koeleria g1auca, в полосовидных микропонижениях - раз-нотравно-песчанополынно-тысячелистниковые ценозы (Achillea micrantha, Artemisia arenaria, Salsola australis, Syrenia siliculosa, Descurainia Sophia), местами дернины Festuca beckeri, Koeleria glauca, Corispermum aralo-caspicum, Agriophyllum arenarium. На поверхности этих образований обнаружены наносы темного пылеватого песка мощностью 5-15 см, которые по мере удаления от канала становятся уже, реже и на расстоянии 400-600 м исчезают совсем. Кумарчиково-тыся-челистниковые (Achillea micrantha, Agriophyllum squarrosum) ценозы на темных песках постепенно проникают на прилегающую равнину по эоловым наносам.
По-другому протекает процесс влияния оросительно-обводнительных каналов на прилегающие территории новокаспийской террасы, основанных на легких песчаных почвах и почвообразующих породах, содержащих прослои легких суглинков. Нами был обследован участок в зоне влияния канала, находящегося в 15 км южнее г. Лагань, где зональной растительностью является - житняково-лерхополынный ( Artemisia lerchiana, Agropyron fragile ) комплекс гемипсаммофитной пустыни. В понижениях, где произрастают лерхополынники, индикаторами боковой фильтрации являются тростник южный ( Phragmites australis ), солодка голая ( Glycyrrhiza glabra ), верблюжья колючка ( Alhagi pseudalhagi ). Непосредственно, в ложе канала, на поверхности воды часто встречаются саль-виниевые ( Salvinia natans ) группировки, создающие застойные явления. Они задерживают песок, попавший в русло канала, создавая условия для произрастания гигрофильных сообществ: тростника ( Phragmites australis ), рогоза ( Typha latifolia ) и пузырчатки ( Utricularia vulgaris ). Через некоторое время, здесь возникают тростниковые заросли, и канал на этом участке практически перестаёт функционировать.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Растительный покров исследуемого региона круглогодично подвергается интенсивному антропогенному воздействию. Перегрузка пастбищ скотом, нерациональное использование мелиоративных систем довольно часто оказывают разрушительное воздействие на природные экосистемы древнекаспийских террас Северо-Западного Прикаспия. Антропогенный пресс может привести зональные фитоценозы к замене рудеральными сообществами. Отрицательное влияние на их сохранность и естественное развитие оказывают:
-
- перегрузка пастбищ скотом;
-
- сооружение ирригационных объектов в земляном русле, приводящих к боковой фильтрации;
-
- на суглинистых почвах в приканальной зоне они вызывают подъём солёных подземных вод и формирование солончаков;
-
- при наличии суглинистых прослоек в ложе канала наблюдается формирование тростниковых зарослей;
-
- на супесчаных почвах способствуют развитию ветровой эрозии [6,4].
Однако ход восстановительных сукцессий показывает возможность регенерации коренных сообществ.
Изучение особенностей пространственного распределения растительности пастбищ, их устойчивость к процессам деградации, может стать основой для мониторинга их состояния, выявления устойчивости растительных сообществ к различным видам антропогенного пресса, разработки способов стимулирования восстановительных сукцессий.
Список литературы Трансформация пространственной структуры растительного покрова Северо-Западного Прикаспия в связи с антропогенным воздействием
- Бананова В.А. Методические указания по изучению процессов опустынивания аридных территорий Калмыцкой АССР. Элиста.: КалмГУ, 1986. 55 с.
- Бананова В.А. Пояснительная записка к карте «Антропогенное опустынивание аридных территорий Калмыцкой АССР» М. I:500000. Элиста.: КалмГУ, 1990. 29 с.
- Борликов Г.Н., Харин Н.Г., Бананова В.А., Татеиши Р. Опустынивание засушливых земель Прикаспийского региона (приложение 3 карты в М: 1000000 и 2500000). Ростов-на-Дону.: СКНЦ, 2000. 97 с.
- Викторов С.В., Чикишев А.Г. Ландшафтно-генетические ряды и их значение для индикации природных и антропогенных процессов//МОИП. Отд. Биол. Т.55. 1976. Вып. 3. С. 27-33.
- Виноградов Б. В. Современная динамика и экологическое прогнозирование природных условий Калмыкии//Проблемы освоения пустынь. 1993. № 1. С. 29-37.
- Геннадиев А. Н., Пузанова Т. А., Герасимова М. И. Естественная и антропогенная эволюция почвенного покрова Западного Прикаспия//Вестник Московского госуниверситета. 1993. Сер. 5. Геогр. № 1. С. 54-65.
- Геннадиев А.Н., Мяло Е.Г., Горяинова И.Н., Пузанова Т.И. Прогноз состояния почвенно-растительного покрова российского побережья Каспия в условиях подъема уровня моря//Вестник Московского госуниверситета. 1994б. Сер. 5. Геогр. № 4, С. 67-72.
- Залибеков З.Г. О биологической концепции проблемы опустынивания//Аридные экосистемы. 1997. Т.3. № 5. С. 7-17.
- Залибеков З.Г., Новикова Н.М. Научные и прикладные основы планетарной стратегии борьбы с опустыниванием//Труды Института геологии Дагестанского научного центра РАН. 2015. № 64. С. 16.
- Золотокрылин А.Н., Виноградова В.В. Соотношение между климатическим и антропогенным факторами восстановления растительного покрова юго-востока Европейской России//Аридные экосистемы. 1997. Т.14. № 33-34. С. 20-33.
- Золотокрылин А. Н. Климатическое опустынивание. М.: Наука, 2003. 245 с.
- Зонн С.В. Опустынивание природных ресурсов аграрного производства Калмыкии за последние 70 лет и меры борьбы с ним//Биота и природная среда Калмыкии. Элиста.: 1995. С. 19-52.
- Ковда В. А. Проблемы борьбы с опустыниванием и засолением орошаемых почв. М.: Колос. 1984. 304 с.
- Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием. Женева.: 1996. 78 с.
- Куст Г.С. Опустынивание: принципы эколого-генетической оценки и картографирования. М.: МГУ-РАН, 1999. 362 с.
- Лавренко Е. М. Принципы и единицы геоботанического районирования. -Геоботаническое районирование СССР. М., Л.: 1947. С. 9-13.
- Лазарева В. Г. Ботаническое разнообразие Северо-Западного Прикаспия в условиях колебания уровня Каспийского моря. Элиста.: Джангар. 2003. 206 с.
- Лазарева В. Г. Динамика антропогенного опустынивания в аридных ландшафтах Калмыкии. Элиста.: КалмГУ. 2014. 70 с.
- Лазарева В. Г., Бананова В. А. Тенденции изменения ботанического разнообразия под влиянием опустынивания в Республике Калмыкия//Аридные экосистемы. 2014. Т.20, №2(59). С. 87-96.
- Лазарева В.Г., Бананова В.А., Харитонов Ч.С., Горяев И.А., Нгуен Ван Зунг. Индикаторная роль растительности при мелиорации аридных ландшафтов Прикаспия (на примере Республики Калмыкия)//Юг России: экология, развитие. 2016. Т. 11, № 3. С. 151-164.
- Николаев В.А. Геоморфология западной части Прикаспийской низменности в четвертичное время//Тр. Прикасп. экспедиции. М.:МГУ. 1958. С. 25-100.
- Неронов В.В. Антропогенное остепнение пустынных пастбищ северо-западной части Прикаспийской низменности//Успехи современной биологии. 1998. Т. 118. Вып. 5. С. 597-612.
- Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации (Ведущие авторы: Е.А. Ваганов, А.Н. Золотокрылин, А.В. Пчелкин)//Изменения природных и хозяйственных систем в XX в. М.: Росгидромет. 2008. Т. II. С. 101-124.
- Опустынивание засушливых земель России: новые аспекты анализа, результаты, проблемы. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2009. 298 с.
- Петров К.М., Бананова В.А., Лазарева В.Г., Унагаев А.С. Динамика процессов опустынивания Северо-Западного Прикаспия: физико-географические и социально-экономические аспекты (атлас-монография). 2016. 98 с. URL: http://rucont.ru/efd/388835 (дата обращения 25.01.2018).
- Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.А., Антипин Н.А. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. М.: Сельхозгиз, 1956. 472 с.
- Сафронова И. Н. Фитоэкологическое картографирование Северного Прикаспия//Геоботаническое картографирование СПб. 2001-2002. С. 44-65.
- Сафронова И. Н. Проблемы проведения подзональных границ в европейских степях России.//В сб.: Степи Северной Евразии. Оренбург. 2009 а. 1. С. 100-102.
- Сафронова И. Н. Состав и структура растительного сообщества как показатель его зонального статуса.//Матер.: междунар. научн. конф. «Растительность Восточной Европы: классификация, экология и охрана». Брянск. 2009 б. С. 188-190.
- Сафронова И. Н. О подзональной структуре растительного покрова степной зоны в Европейской части России.//Ботан. журн. 2010. 95 (8): 1126-1133.
- Статистический сборник «Калмыкия в цифрах». Статуправление Республики Калмыкия. Элиста. 2015. 240 с.
- Харин Н. Г., Нечаева Н. Т., Николаев В. Н. Методические основы изучения и картографирования процессов опустынивания (на примере аридных территорий Туркменистана). Ашхабад. 1983. 103 с.
- Provisional methodology for assessment and mapping of desertification. FAO/UUEP. Rome.1984. 84 p.
- Climate and Land Degradation/Eds. Mannava V.K. Sivakumar, Ndegwa Ndiang‘ui. Environmental Science and Engineering Subseries: Environmental Science. Springer. 2007. 623 p.
- Land Degradation and desertification: Assessment, Mitigation and Remediation/Eds. Pandi Zdruli, Marcello Pagliai, Selim Kapur, and Angel Faz Cano. Springer. 2010. 660 p.
- Lee Cathy, Thomas Schaaf. The Future of Drylands. Springer. 2006. 855 p.
- Rangeland desertification/Ed. By Olafur Arnalds, Steve Archer. Springer-Science+Business Media, B.V. 2000. 209 p.