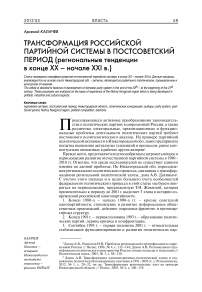Трансформация российской партийной системы в постсоветский период (региональные тенденции в конце XX – начале XXI в.)
Автор: Калачев Арсений Павлович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 3, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена специфике развития отечественной партийной системы в конце XX – начале XXI в. Данные процессы анализируются на основе опыта Нижегородской обл. – региона, являющегося развитым в политическом, промышленном и культурном отношении.
Партийная система, постсоветский период, нижегородская область, политическая конкуренция, выборы
Короткий адрес: https://sciup.org/170166844
IDR: 170166844
Текст научной статьи Трансформация российской партийной системы в постсоветский период (региональные тенденции в конце XX – начале XXI в.)
П родолжающиеся активные преобразования законодательства о политических партиях в современной России, а также различные электоральные, организационные и функциональные проблемы деятельности политических партий требуют постоянного политологического анализа. На примере партийной политической активности в Нижегородской обл. нами предпринята попытка выявления актуальных тенденций и процессов, ранее концептуально описанных в работах других авторов1.
Прежде всего, представляется целесообразным затронуть вопрос о периодизации развития отечественной партийной системы в 1980– 2010 гг. Отметим, что среди исследователей не существует единого мнения по данной проблеме. По Нижегородской обл. периодизация регионального политического процесса, связанная с трансформациями регинальной политической элиты, дана А.В. Дахиным2. С учетом этого подхода и в целях большего учета особенностей федерального политического процесса в этой статье мы будем опираться на периодизацию, предложенную Т.Н. Жокиной, которая применительно к периоду до 2001 г. выделяет 3 этапа в истории современной российской многопартийности.
-
1. Конец 1980-х – начало 1990-х гг. – кризис советской однопартийности, становление и развитие неформальных общественных организаций, действие «народных фронтов» и протопартийных структур.
-
2. Конец 1991 г. – первая половина 1993 г. – образование политических партий, период кризиса и конфронтации.
-
3. Сентябрь 1993 г. – первая половина 2001 г. – относительная стабилизация функционирования и развития политических пар-
- КАЛАЧЕВ
Арсений
Павлович – аспирант Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС
-
1 Дахин А.В., Распопов Н.П. Проблема региональной стратификации в современной России // Полис, 1998, № 4, с. 132–144; Дахин А.В. Региональная стратификация политического пространства России: новые подходы и тенденции // Политическая наука, 2003, № 3, с. 86–120.
-
2 Дахин А.В. Трансформация административно-политической элиты и становление политической конкуренции в регионе в 1991–2005 гг. // Регионология, 2012, № 1, с. 20–32; он же. Трансформация региональных элит на примере Нижегородской области // Полис, 2003, № 4, с. 108–119.
тий1. Соответственно, по нашему мнению, с 2001 по 2011 г. можно вести речь о 4-м этапе развития отечественной многопартийности. Для него характерно большее по сравнению с прежними периодами вмешательство государства в функционирование политических партий, а также активное применение последними технологии франчайзинга. С принятия поправок в законодательство, упрощающих процедуру регистрации политических партий, в 2012 г. начался 5-й этап, для которого характерны рост числа политических партий и, соответственно, изменение структуры электоральных предвыборных пространств регионов.
В Нижегородской обл., как и в большинстве других российских регионов, основная масса первичных политических объединений конца 1980-х – начала 1990-х гг. формировалась путем самоорганизации. Они зарождались в результате инициативы групп граждан и изначально функционировали в качестве различного рода неформальных объединений (народных фронтов, клубов гражданских и правовых инициатив и т.д.), а затем в процессе своего развития эволюционировали к организационной форме политической партии. Их общими признаками была слабая организационная устойчивость, значительное влияние фактора межличностных отношений на организационное единство партии и высокая степень персонификации курса партии в имидже ее лидера. По сути, это были идеологические клубы, в которых политически активная часть общества видела средство реализации собственных политических убеждений, отличных от официальной точки зрения2.
Упомянем также, что в конце 1980-х – начале 1990-х гг. существовали в основном два непосредственных побудительных мотива партийного строительства. Преобладала ориентация на популярных политических лидеров, когда принадлежность к той или иной партии определялась в соответствии с личностными симпатиями или антипатиями. Единство ценностных ориентаций, привержен- ность определенной системе взглядов или идейно-политическому течению можно охарактеризовать как мотив, имеющий вторичное значение.
Именно поэтому многие политические партии, сформировавшиеся в последние годы перестройки и в постперестроечной России (то есть, на 1-м и 2-м этапах развития российской многопартийности), можно охарактеризовать как клиентелы, образованные политически активными индивидами, обладающими минимальным уровнем социальности и сгруппировавшимися вокруг популярных политических лидеров. Управленческие структуры партий такого рода также формировались по принципу клиентелы: статус того или иного члена руководящего ядра партии зависел от личного отношения лидера и степени расположения по отношению к кому или чему-либо3.
Причинами появления новых политических партий становились также стремление региональных политиков принять участие в выборах и необходимость организационной консолидации сторонников в целях реализации сугубо корпоративных интересов в рамках региональных легислатур. Образование политических партий в современной России в основном осуществляется двумя способами: реже – путем самоорганизации «снизу», как правило – в результате предварительного конструирования структуры политической организации «сверху».
Таким образом, можно утверждать, что партийная система стала реально складываться в регионе лишь тогда, когда в этот процесс включились по-настоящему влиятельные региональные политики – Б.Е. Немцов, И.П. Скляров, Д.И. Бедняков, С.В. Кириенко и др. Это произошло уже ближе к концу 1990-х гг., т.е. на 3-м этапе развития отечественной партийной системы. До этого политические партии во всем их многообразии были далеко не самыми значимыми акторами политического процесса, уступая группам интересов в структурах исполнительной ветви власти, финансово-промышленным группам и криминальным структурам. Мало того, опыт ряда выборных кампаний 1990-х гг. показал, что для завоевания симпатий избирателей партийная принадлежность не являлась обязательным атрибутом. (Особенно наглядно это продемонстрировали выборы главы областного центра 29 марта 1998 г., когда преимущество беспартийных кандидатов по отношению к главам региональных отделений двух партий, имеющих в активе победы на выборах по партийным спискам, было подавляющим.) Еще один характерный пример: во второй половине 1990-х гг. в Нижегородском ОЗС не было депутатов, баллотировавшихся в качестве представителей политических партий1.
Наиболее популярные и влиятельные политики региона – от представителей власти до ушедших в непримиримую оппозицию (как, например, А.А. Климентьев) – не ассоциировались с какими-либо партийными структурами, даже если и были к ним причастны (есть, например, сведения, что Б.Е. Немцов на рубеже 1980-х –1990-х гг. являлся членом Российского христианско-демократического союза – РХДД2, однако весьма немногие нижегородцы связывали главу региона с этой далеко не самой влиятельной структурой). Иначе говоря, ввиду необязательности членства в какой-либо партийной структуре наиболее влиятельные политики регионального масштаба дистанцировались от партийных структур, а побед на выборах разного уровня добивались за счет иных ресурсов. Партийным структурам в регионе оказалось нечего предложить перспективным политикам, кроме решения вопросов электоральной мобилизации. А в остальном партии вели некое параллельное существование в тени самостоятельной политической деятельности лидера, чиновника, лоббиста.
Представляется, что слабость партийных структур региона 1990-х гг. отчасти объяс-няетсятем,чторегиональнаяисполнитель-ная власть, и прежде всего Б.Е. Немцов, оказались чуждыми партийному строительству. Впрочем, в этом плане губернатор Немцов во многом следовал примеру президента России Б.Н. Ельцина, который так же не стремился связывать себя «партийными узами» с демократическим движением, но старался занять позицию «над схваткой». Кроме того, в Нижегородской обл., так же как и в стране в целом, был фактически взят курс на мирный переход властных рычагов от советской партийнохозяйственной номенклатуры к новой власти. В этой связи часть прежней номенклатуры (либо умеренная по своим коммунистическим взглядам, либо же откровенно безыдейная) оказалась востребованной новой властью для решения рутинных хозяйственных задач (И.П. Скляров и др.), а кадры, которые можно было призвать из вчерашнего неформалитета, выполняли функции интеллектуального или информационного сопровождения действий власти (В.Д. Козлов, В.И. Лысов и др.). Нельзя также не отметить, что демократ Б.Е. Немцов оказался не чужд авторитарного стиля управления, в связи с чем ему оказалось проще опереться на поддержку безыдейных карьеристов, нежели на идейных демократов из «Демократического выбора России», «Демократической России», «Демократического союза» и Движения демократических реформ. Указанное обстоятельство способствовало превращению видных гражданских активистов конца 1980-х – начала 1990-х гг. в политических маргиналов и фактическому вытеснению большей их части на периферию политической системы региона к концу 1990-х гг.
Можно согласиться с уральскими исследователями Л.С. Вагиной и И.А. Удовиченко, писавшими, что слабость региональной партийной системы в постсоветское время объяснялась следующими факторами:
– наследием антигражданственной культуры советского времени (атомизация общества);
– отсутствием социальных навыков и подготовленных элит, необходимых для самодеятельной общественнополитической организации;
– недостатком материальных ресурсов, необходимых для общественной самоорганизации;
– противоречивостью и кратковременностью периода демократизации и, как следствие, сравнительно неблагоприятным для успешной самоорганизации институциональным фоном (сверхпрезидентская система, слабый парламент, бюрократизация, групповая ориентация и сравнительная некомпетентность средств массовой информации и т.п.);
– социокультурной деградацией российского общества (углубляющийся кризис общественной солидарности) на фоне социально-экономической поляризации, развития олигархического капитализма и коррупции, опережающего (по сравнению с центром) продвижения в авторитарном направлении и отсутствия в большинстве случаев в рамках региональных режимов спроса на партии как инструмент консолидации власти региональных лидеров и элитных групп (кланов)1.
В условиях отсутствия полноценного гражданского общества, правового беспредела и хаотично меняющейся экономики политические партии в большинстве своем были обречены на превращение в клиентелы отдельных политиков. Быстрая трансформация их в политические институты, аналогичные тем, что действуют в странах Запада, была невозможна. В условиях формальной институционализации политических партий (вернее, того, что именовалось таковыми в РФ в 1990-е гг.) многие политические акторы (представители бизнес-элиты или региональных элит, отраслевые лоббисты) вынуждены были принимать участие в партстроительстве, навязывая при этом свои правила политической игры, как формальные, так и неформальные.
Не обойдем вниманием еще одно обстоятельство: большинство российских партий изучаемого нами периода строились сверху вниз, а не наоборот. В результате даже лидеры нижегородских региональных отделений партий оказывались вне проходной части партийных списков на выборах, в то время как весьма неоднозначные персоны становились депутатами парламента. Так, например, у нас нет никаких сомнений в том, что глава регионального отделения ЛДПР 1990-х И.Л. Велетминский мог стать ничуть не худшим депутатом, нежели охранник В.В. Жириновского (А. Курдюмов), однако мнение партийного лидера при формировании списка на выборах было решающим, в связи с чем, несмотря на весьма высокий результат ЛДПР на выборах в декабре 1993 г. (более 18%), лидер нижегородского регионального отделения этой партии не прошел в Государственную думу.
Отметим также, что в Нижегородской обл. сложилось отделение лишь одной партии, которую следует однозначно считать массовой. Речь идет о КПРФ, которая сумела использовать часть ресурсов, оставшихся от КПСС. Остальные же партии в результате их деятельности в регионе скорее следует отнести к кадровым, хотя далеко не все они были созданы в рамках парламента. Часть партий по результатам их деятельности в регионе в 1990-х гг. вполне уместно отнести к «всеохватным» – в первую очередь, с нашей точки зрения, это касается ЛДПР и Народно-республиканской партии. В конце 1990-х гг. в регионе появляются отделения картельных партий. К таковым, прежде всего, следует причислить такие структуры, как «Отечество – вся Россия» и «Единство».
В результате всех политических трансформаций второй половины 1980-х – конца 1990-х гг. в регионе сложилось конкурентное политическое пространство, в котором действовали как региональные, так и федеральные политические партии разного типа. Основная особенность состояла в том, что партийные структуры, имея в своей основе привязку к той или иной группе влияния (идеологического, административного или финансового) и ее лидеру, отражали структуру основных отношений конкурирующих политических акторов. В этой ситуации конкурентные отношения – будь то по вопросам идеологии или экономики – достаточно адекватно отражались в структуре конкурентных отношений региональных партий. Накал межпартийной конкуренции в предвыборные периоды вполне отражал накал противоречий или конфликтности интересов соответствующих влиятельных групп. Внутрипартийная конкуренция почти отсутствовала: партии изначально строились «под лидера». Жесткость политической конкуренции в сочетании с недобросовестностью привела к массовому применению «грязных технологий», мишенью которых становились политические лидеры. При этом политическая смерть лидера приводила также к политической гибели региональной партии.