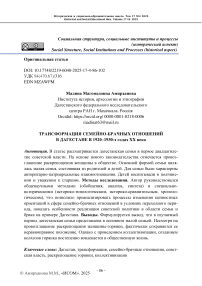Трансформация семейно-брачных отношений в Дагестане в 1920–1930-х гг. XX века
Автор: Амирханова М.М.
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Социальная структура, социальные институты и процессы
Статья в выпуске: 4 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается дагестанская семья в первое двадцатилетие советской власти. На основе нового законодательства отмечается провозглашение раскрепощения женщины в обществе. Основной формой семьи являлась малая семья, состоявшая из родителей и детей. Для семьи были характерны авторитарно-патриархальные взаимоотношения. Детей воспитывали в подчинении и уважении к старшим. Методы исследования. Автор руководствовался общенаучными методами (обобщения, анализа, синтеза) и специально-историческими (историко-типологическим, историко-сравнительным, хронологическим), что позволило проанализировать процессы изменения ценностных ориентаций в сфере семейно-брачных отношений в условиях переходного периода, показать особенности реализации советской политики в области семьи и брака на примере Дагестана. Выводы. Формулируется вывод, что в изучаемый период дагестанская семья представлена в основном малой семьей. Несмотря на провозглашение раскрепощения женщины-горянки, фактически сохраняется ее неравноправное положение. Однако с проведением коллективизации, созданием колхозов горянка постепенно вовлекается в общественную жизнь.
Дагестан, трансформация, семейно-брачные отношения, советская власть, раскрепощение горянки, коллективизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149149352
IDR: 149149352 | УДК: 94(470.67)/316 | DOI: 10.17748/2219-6048-2025-17-4-86-102
Текст научной статьи Трансформация семейно-брачных отношений в Дагестане в 1920–1930-х гг. XX века
Введение.
В связи со снижением рождаемости в стране актуальной становится задача увеличения количества семей с тремя и более детьми. Достижению данной цели призвано способствовать обращение к советской политике в сфере семейнобрачных отношений, особенно первых лет советской власти. Мероприятия по реформированию данной сферы в 1920-1930-е годы определили вектор развития семьи и брака на протяжении советской и постсоветской истории вплоть до наших дней.
Октябрьская революция 1917 года положила начало кардинальным переменам в жизни народов России, определив радикальные изменения в развитии страны. Советская власть создала новый государственный аппарат, призванный осуществить передел собственности, провести коренные экономические, общественно-политические и социально-культурные преобразования.
Первая мировая и Гражданская войны обусловили крайне негативные последствия в численности и половозрастном составе населения страны. По данным С.В. Захарова, людские потери страны в 1916-1921 гг., колеблющиеся в пределах от 12 до 18,6 млн человек [1, с. 149], нарушили соотношение полов, особенно в деревне. Среди лиц 1894–1898 гг. рождения соотношение мужчин и женщин составляло 1:2 [1, с. 149]. Проблема семьи, ее исторического развития получила определенное освещение в советской историографии. Начиная с 20 -х годов популяризовались радикальные социалистические преобразования в сфере семейно-брачных отношений, создания новой советской семьи [2; 3].
Позднее, в 60-80-е годы, появились работы, прослеживающие исторический взгляд на семейно-брачные отношения, роль женщины в социалистическом обществе [4; 5; 6].
В постсоветский период изменения семейно-брачных отношений, особенно статуса женщины, рассматриваются на основе трансформации общественного сознания. Так, Н.А. Пушкарева анализирует эмоциональную сторону супружества, изменение роли женщины в семье на протяжении длительного исторического периода и т.д. [7].
Интересные подходы к изучению трансформации семьи в советском обществе, роли человека в ней характерны для работ К.Б. Литвака, В.М. Кабузана [8; 9].
В региональной историографии также нашли освещение отдельные аспекты рассматриваемой проблемы. А.И. Гасанова в контексте раскрепощения женщины-горянки характеризует новое законодательство советской власти об охране материнства и младенчества, женском и детском труде, равной оплате женщин с мужчинами и т.д. [10].
М.Я. Мирзабеков в своих работах рассматривает такие важные аспекты, как материальное обеспечение многодетных семей, динамику воспроизводства дагестанцев, особенно детей и др. [11; 12].
М.И. Гаджиева, анализируя исторический путь развития дагестанской семьи, пишет о важности ликвидации неграмотности женщины-горянки для вовлечения ее в общественно-политическую и культурную жизнь [13].
Источниковую базу исследования составили документальные материалы из фондов Центрального государственного архива Республики Дагестан. В фонде р-23 (Министерства здравоохранения) содержатся справки о санитарном состоянии городов, о проведении мер по борьбе с эпидемиями заразных болезней и т.д. В фонде 1-п (Дагестанского обкома партии) имеются корреспонденции, статьи из периодической печати об изменении статуса женщины-горянки после установления советской власти. В фонде р-37 (Дагестанского Центрального исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов) сохранились материалы об открытии родильных домов, женских консультаций в городах и районных центрах республики. Кроме того, здесь можно почерпнуть сведения о создании детских учреждений.
Цель статьи – охарактеризовать изменение норм семейно-брачных отношений в первое двадцатилетие советской власти, ход раскрепощения женщины-горянки, отметить значение политики по охране материнства и детства для преобразования дагестанской семьи, показать влияние проведения коллективизации, культурного строительства на вовлечение горянки в общественнополитическую и культурную жизнь республики.
Основная часть. Население Дагестана в результате потерь в Гражданской войне, эпидемий тифа и малярии, катастрофической засухи 1920–1921 гг., унесших десятки тысяч жизней, оттока части русского, украинского и еврейского населения, эмиграции части буржуазии, помещиков и духовенства в Турцию сократилось до 663 тыс. человек [14, с. 38, 39].
Материалы статистики 20-х годов также показывают сокращение численности населения, фиксируя значительное уменьшение доли мужчин. Так, если в 1917 г. на 100 мужчин в Дагестане было 97 женщин, то в 1926 г. – 106. По Городской переписи 1923 г. в городах насчитывалось 2933 вдовых лица, 2763 из которых были женщины [12, с. 61]. Статистическая служба Наркоматов внутренних дел, здравоохранения в 1921–1922 гг. неоднократно отмечала эту особенность демографических процессов [15, с. 173].
Материалы переписи 1926 г. также представляют интерес для анализа ситуации. По переписи детей 1907–1917 гг. рождения насчитывалось 101 496, или на 30% меньше числа детей, родившихся в последующие 5 лет (в 1922–1926 гг.). Эти данные показывают уменьшение рождаемости в результате Гражданской войны [15, с. 173].
В то же время после Гражданской войны дагестанцы оказались на грани голодного существования (питание на одного человека составляло 1800 калорий в сутки) [16, с. 554]. Особенно недостаток питания сказывался на детях, которые часто болели, и ситуация нередко заканчивалась летальным исходом.
Тяжелые жилищно-бытовые условия, отсутствие бань, водопроводов также способствовали распространению эпидемических заболеваний. Например, из приказа Порт-Петровского ревкома «О санитарном состоянии дворов города» (апрель-май 1921 г.) следует, что для прекращения в городе заразных болезней и приведения его в должное состояние горожанам предлагалось в течение недели приступить к очистке улиц и дворов. В случае неисполнения приказа виновных должны были оштрафовать и предать суду Ревтрибунала, расценив это как нежелание бороться с эпидемией1.
На этом фоне местные власти и в других городах (Дербенте, Буйнакске) обязаны были провести «недели чистоты в городах», разделив их на районы и назначив особого коменданта2.
Сложная обстановка сложилась в республике из-за эпидемии холеры. Так, Приказ Наркомздрава ДССР (12 июня 1921 г.) содержит целый перечень мер по ликвидации эпидемии. Предлагалось образовать комиссии «сантройки» по борьбе с холерой из авторитетных представителей местного населения, с обязательным участием в этих комиссиях завздравотделом, для проведения в жизнь указанных мероприятий3.
Правительство РСФСР в 1921 г. отпустило Дагестану 25 млн руб. на приобретение медицинского оборудования и медикаментов [16, с. 555]. В Дагестан была направлена и санитарная экспедиция для борьбы с эпидемиями и организации здравоохранения.
Между тем победа советской власти в Дагестане означала лишь начало ликвидации фактического неравенства женщин с мужчинами. Женский вопрос на мусульманском Востоке включал в себя целый ряд проблем: моральноэтических, семейно-бытовых, правовых, каждая из которых имела самостоятельное значение.
В Дагестане до 1927 г. действовали шариатские суды, которые решали один из острых вопросов женского равноправия – бракоразводные процессы. Еще не изжиты были такие пережитки прошлого, как неравенство при заключении брака, калым, многоженство, выдача замуж несовершеннолетних. Родители еще лишали девушек права ходить в школу, духовенство отчаянно сопротивлялось участию женщин в общественной жизни, обучению грамоте. Мужья считали оскорблением для себя выборы жены в Совет, в правление кооперации.
Однако постепенно эти и другие проявления женского неравноправия отмирали. В ст. 89 Основного закона – первой Конституции Дагестана было запи- сано: «Женщине в Дагестанской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни» [17, с. 14].
Об обязательности фактического раскрепощения женщины говорилось и в постановлении ДагЦИК «О правовых нормах женщины-горянки», утвержденном сессией пятого созыва 9 октября 1925 г.: «Женщине-горянке предоставляется полная свобода в выборе мужа. Всякое насилие над ее свободной волей в этом отношении, принуждение к вступлению в брак или воспрепятствование к заключению такового со стороны родителей, опекунов или близких родственников представляется актом недопустимого насилия над личностью свободной гражданки и влечет за собой привлечение виновных к уголовной ответственности… Взимание калыма при заключении брака в каком бы то ни было виде и размере, превращающее брак в акт купли и продажи свободного человека, строго воспрещается…» [18, с. 68].
Говоря о раскрепощении горянки, журнал «Работница» 8 декабря 1926 г. писал: «Сильны законы старины, крепко держат они в подчинении женщину, но Великий Октябрь освободил труженицу. Ломается старый быт и рвутся ржавые цепи. Женщина Востока идет к знанию, свету, и здесь, в Дагестане, получив долгожданную радость, постановление ДагЦИК’а о правах горянок, горянка смело идет по новому закону…»1.
Партийные организации требовали от коммунистов показывать пример в борьбе с патриархальными пережитками. Принимали меры к коммунистам, придерживавшимся старых обычаев в отношении к женщине. Так, 16 ноября 1928 г. газета «Красный Дагестан» опубликовала статью «Под маской коммуниста», разоблачавшую неправильное отношение коммуниста Д. Атаева (председателя Дагестанского отделения государственного страхования) к своей жене Патимат, который запрещал участвовать в общественной работе и учиться в ликпункте [10, с. 115].
Борьба с пережитками прошлого велась и в других северокавказских республиках. Например, активно боролись против уплаты калыма в Кабардино-Балкарии. Только в 1923 г. у виновных было изьято 10 лошадей, 102 головы крупного рогатого скота и 600 пудов зерна. Однако в Ингушетии сочли необходимым сохранить отдельные уступки обычаям. 1-й съезд Советов постановил сохранить «условный калым» в размере 25 коп. [6, с. 203].
В первые же месяцы революции было уничтожено неравенство в брачном и семейном праве, существовавшее по старым законам. Согласно декрету ВЦИК и СНК «О расторжении брака» (29 декабря 1917 г.), жена имела равное право с мужем на расторжение брака. А декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» (18 декабря 1917 г.) узаконил: «Рос- сийская республика впредь признает лишь гражданские браки», а «церковный брак является частным делом трудящихся»; «дети внебрачные уравниваются с брачными относительно прав и обязанностей как родителей к детям, так и детей к родителям»1.
Все права супругов, в том числе имущественные, признавались лишь тогда, когда брак был зарегистрирован в загсе, а церковный брак таких прав не гарантировал. В законодательство о браке и семье позже (1926 г.) были внесены некоторые изменения и дополнения. Минимальный брачный возраст был повышен до 18 лет, как для мужчин, так и для женщин. Непременным условием к браку считалось добровольность и согласие обеих сторон.
Закон также признавал те семьи, где фактически он существовал, что при необходимости можно было легко доказать в суде, уравнял их статус в правах на детей и имущество. Фактический брак был признан в целях защиты прав женщины, много терявшей в случае расторжения такого союза. Она могла терять право на детей и совместно нажитое имущество.
В то же время были изданы декреты об охране и обеспечении материнства и младенчества, о равной заработной плате женщин за равный труд с мужчиной, об охране женского и детского труда, об организации общественного питания для детей [10, с. 27].
В Дагестане для формирования новой семьи важное значение имел декрет «Об охране материнства и детства». До установления советской власти царское правительство не уделяло никакого внимания этим вопросам. Роженицам врачебная помощь оказывалась повитухами в домашних условиях. Даже в городах Порт-Петровск и Дербент не имелось стационарного родильного дома.
В мае 1920 г. на своем заседании отдел здравоохранения Дагревкома обсудил вопрос об организации врачебных акушерских и фельдшерских пунктов в первую очередь в окружных центрах: Хунзахе, Гунибе, Левашах, Кумухе и т.д. [19, с. 31].
Только при советской власти в комиссариате государственного призрения был учрежден отдел по охране материнства и детства. Основной задачей его являлось сохранение здоровья матери и ребенка, физическое и духовное воспитание граждан и их детей. Однако в начале своего существования отдел занимался лишь распределением мануфактуры роженицам для содержания новорожденных в чистоте.
Также были открыты специальные родильные дома в городах и 23 окружных больницах республики. При окружных и районных центрах республики открывались для помощи женщинам женские консультации, а с наступлением родов туда можно было обращаться за акушерской помощью. Кроме то- го, предпринимались первые шаги в вопросе проникновения акушерской помощи в среду горянок (разъездная акушерка)1.
В Дагестане детская смертность в начале 1920-х годов была очень высокой. Женщину-горянку трудно было заставить обратиться за медицинской помощью, тем более к врачу-мужчине. Мусульманки чаще предпочитали пользоваться услугами знахарей.
С целью расширения здравоохранения Наркомздравом на Кавказ были направлены русские медицинские работники-женщины. Однако при общении с населением возникали трудности: русские медработники не владели местными языками, а горянки не понимали по-русски. Обращались за помощью к переводчикам, которые в основном были мужчины, стеснявшие пациенток своим присутствием. Медикам приходилось пользоваться различными способами в своей работе – от косвенных советов женщинам до угощения принесенных на обследование малышей сладостями.
Для формирования новой дагестанской семьи открытие родильных домов и женских консультаций имело важное значение.
Позднее при посредничестве отдела по уходу за грудными и малолетними детьми открывались детские сады и ясли, дома матери и ребенка, и не только в городах, но и в округах. Например, на 4 мая 1921 г. в семи округах и трех городах насчитывалось семь детских домов, пять детских садов, шесть детских столовых, в которых имелось 2039 детей2.
Дошкольные учреждения, особенно в период полевых работ, способствовали повышению производительности труда в промышленности и сельском хозяйстве. Однако постановление Президиума ЦИК ДАССР «О ходе обслуживания детей трудящихся детскими учреждениями» (16 октября 1935 г.) говорит о недостаточной обеспеченности ими. Так, яслями было охвачено 920 детей в городах и 2000 на селе. При этом по сравнению с 1934 г. улучшились обеспеченность их питанием и оборудованием, уход за детьми3.
В то же время из доклада Наркомздрава ДССР по вопросам охраны материнства и младенчества по состоянию на 1 декабря 1922 г. следует, что в республике имелось всего 22 детских дома, в которых числилось 2 106 детей. При этом большее внимание уделялось детям из горных районов, где население находилось в более тяжелом материальном положении, чем на равнине. Здесь своего хлеба хватало только на 2–3 месяца и то не во всех селениях4. Остальное время года горцы пользовались привозным хлебом из плоскостного Дагестана. Однако эффективная работа детских и медицинских учреждений тормозилась из-за отсутствия необходимых материальных средств и несвоевременного их получения.
Политика охраны материнства и детства, проводившаяся советской властью, способствовала раскрепощению женщины в быту, преобразовывала семью и внутрисемейные отношения. Эти мероприятия содействовали новым отношениям в семьях дагестанцев. Было положено начало новому обучению и воспитанию детей.
Вместе с тем организация дошкольных учреждений была связана с определенными трудностями, поскольку противоречила всему укладу традиционного семейного быта дагестанцев, такого рода воспитанию детей. Разнообразная агитационная работа была призвана содействовать популяризации дошкольных учреждений.
Например, республиканская газета «Красный Дагестан» (28 июня 1926 г.) писала: «Сколько радости для матери-работницы, когда ее ребенок из бедняцкой семьи, одетый в чистое белье, в хорошей кроватке и внимательным уходом пользуется во время ее тяжелой работы на полях, она спокойна за свое дитя…»1.
В 1920 г. партийная организация Дагестана начала постоянную работу среди женщин. Первые женские организации были созданы в Темир-Хан-Шуре. В июле 1920 г. здесь была организована женская ячейка «Детская площадка», которая объединяла матерей детей, находившихся на детских площадках города. Женщин, участвовавших в работе ячеек, собирали два раза в неделю, проводили с ними беседы по различным вопросам и привлекали их к практической работе – уборке детских дошкольных учреждений, пошиву одежды для детей и т.д. Вскоре таких ячеек было уже шесть [10, с. 31].
Четыре детские площадки также были открыты в городе Порт-Петровске городским отделом народного образования. Однако из-за отсутствия достаточных средств крытых помещений и инвентаря для игр было недостаточно, питание детей не было организовано2.
Большое значение придавалось организации детских площадок в сельской местности. Например, из протокола № 1 заседания комиссии по организации детской площадки (4 апреля 1928 г.) в селении Касум-Кент Кюринского округа следует, что комиссия постановила просить окружной комитет взаимопомощи предоставить под площадку имеющийся земельный участок кресткома, а также оказать материальную помощь в ее организации3.
Для 30-х годов было характерно существенное увеличение естественного прироста городского населения Дагестана. Например, в 1930/31 году числен- ность горожан выросла за счет рождаемости на 1,58 тыс. чел., а в 1936 г. – на 7,61 тыс. человек, или в 4,8 раза1.
Основным каналом воспроизводства сельского населения также являлся естественный прирост, неуклонно возраставший. Так, в 1930/31 г. он равнялся 0,92 тыс. чел., а в 1933 г. – 15,77 тыс. чел., в 1936 г. – 21,37 человек [18, с. 62]. Это объяснялось высокой рождаемостью и ориентацией дагестанцев на многодетную семью, успехами в развитии здравоохранения в республике. В это десятилетие были достигнуты значительные успехи в борьбе с тяжелыми заболеваниями. При этом горожане достаточно быстро стали отдавать предпочтение гражданской регистрации брака, а на селе дольше придерживались традиций. Несмотря на многонациональный состав населения Дагестана, браки в основном заключались между представителями одной национальности.
В 30-е годы в РСФСР брачность населения была традиционно высокой. По данным Всесоюзной переписи населения 1939 г., на 1000 чел. населения в возрасте 15 лет и старше в браке состояло мужчин – 675, женщин – 577 (в СССР соответственно 668 и 590). Таким образом, более половины мужчин и женщин находились в браке и имели семьи [1, с. 184].
Дагестан же относится к тем регионам страны, где до революции были распространены ранние браки (с 13–15 лет). С установлением советской власти властными структурами республики была признана необходимость установления минимального возраста для вступления в брак. Так, на заседании Президиума Дагревкома (28 июня 1921 г.) заслушивался доклад Наркомата внутренних дел о необходимости определения возраста, дающего дагестанцам право вступления в брак. Было утверждено положение: «Всем гражданам Дагестана разрешено вступать в брак: женщинам – с 16 лет, мужчинам – с 18 лет»2.
А постановлением Президиума ВЦИК (11 июня 1927 г.) ст. 5 Кодекса законов о браке, семье и опеке была дополнена примечанием следующего содержания: «Президиумом ЦИК республик предоставляется право в исключительных случаях понижать для женщин брачный возраст, но не более, чем на один год»3. Постановление было утверждено 11 сессией ВЦИК VIII созыва.
В Дагестане, как в республике, исповедующей ислам, всегда актуальным являлся вопрос о многоженстве. В рассматриваемый период республиканские власти также неоднократно его обсуждали. В архивном фонде Наркомата внутренних дел сохранилась переписка ведомственных органов по вопросам бракосочетания. Так, Управление Махачкалинской районной милиции обратилось в НКВД республики за разъяснением вопроса, могут ли муллы и кадии совершить обряд бракосочетания мужчине, уже имеющему жену. В то же время по декрету
ДагЦИК и СНК «О правах трудящихся женщин-горянок ДССР» (9 октября 1925 г.) было предусмотрено, что «многоженство не допускается»1.
Однако ст. 9. декрета носила больше декларативный характер и не имела в виду какие-то карательные санкции. Постановлением Президиума ВЦИК (23 января 1927 г.) был принят проект ВЦИК о дополнении Уголовного кодекса главой 9 «О преступлениях, составляющих пережитки родового быта»2. Ст. 7 предусматривала: «Двоеженство или многоженство влечет за собой принудительные работы, без содержания под стражей или штраф до 500 руб.»3.
Дети всегда в сельских семьях считались большой ценностью, поскольку рассчитывали на их помощь в хозяйстве, особенно в старости. Не зря в крестьянской среде осуждали вмешательство в естественные процессы, чтобы предотвратить деторождение. Таким образом, основным регулятором репродуктивного поведения выступал сам уклад крестьянской жизни.
Для Дагестана также характерно было сохранение традиционного типа воспроизводства населения, то есть преобладание удельного веса детей и подростков. Так, в 1926 г. в составе населения республики лиц до 14 лет было 39,7%. К 1939 г. доля этой категории немного увеличилась, составив 46,6%4.
Принцип наделения землей в зависимости от количества едоков в 20е годы также способствовал многодетности. Особенно в детях были заинтересованы середняцкие хозяйства, стремившиеся увеличить земельный надел. Об этом в какой-то мере свидетельствует и следующий архивный документ. В селениях Варсит и Оглавкент Кайтагского района землеустроителем Управления землеустройства А.П. Сауминым была проведена поверка прав на землепользование жителей. Было установлено наличное количество дворов и едоков, имевших право на получение земли5.
Преобладание крестьян-единоличников в дагестанском селе способствовало сохранению пережитков патриархального быта в семейных отношениях. В 20-х годах основной формой семьи оставалась малая семья, обусловленная единоличным хозяйством крестьян.
Такой семье было характерно неравномерное положение мужа и жены, родителей и детей, старших и младших. Хотя женщине советской властью были предоставлены равные права с мужчинами, она все еще оставалась зависимой от мужа и семьи. Приниженное положение женщины считалось естественным, само собой разумеющимся. В руках мужчины было все имущество и земля. А жен- ский труд, сколь важным он ни был для семьи, не обеспечивал ей материальной независимости.
С проведением коллективизации и созданием колхозов фактически изменилось положение женщины. С одной стороны, изменение форм собственности и характера экономических отношений способствовало тому, что основой аграрного производства стал колхоз. Вместе с тем масштабы крестьянского хозяйства существенно уменьшились. Женщина пошла работать в артель, хотя ее обязанности в семье остались прежними. Нагрузка на нее, как и прежде, в условиях семейного крестьянского хозяйства, была очень высокой. Например, в земледельческом хозяйстве в плоскостном Дагестане продолжительность рабочего дня в апреле (яровые посевы) составляла 8-9 часов; в июне косьба и уборка сена, уход за чалтыком (рис) – 9-10 часов; в июле-августе (уборка хлебов, молотьба) – 9-10 часов1.
В статье «В стране гор» в газете «Красный Дагестан» (15 февраля 1927 г.) отмечалось: «Труд женщин Дагестана колоссальный. В некоторых селениях обработка земли производится орудиями первобытного образца: мотыгой, которая разбивает комья земли … Нередко встретишь, как женщина, навьюченная тяже- стью, идет рядом с ишаком по узеньким тропинкам, поднимаясь на горку … Измученная, возвращаясь с полевых работ, горянка не имеет возможности отдохнуть, занимаясь домашней работой…»2.
Вместе с тем в докладной записке в Дагестанский областной комитет партии инструктор Дагкентбирлиги* А.В. Фурашов (6 июня 1928 г.) писал: «Учиты- вая экономические условия Дагестана, в сельхозкооперации крестьянка должна сыграть большую роль … Могут быть организованы женские артели по переработке молока, огородные артели, по сушке фруктов…»3.
Например, в селении Аксай Хасавюртовского района организовали жен- скую артель по хлопководству, и в результате она получила урожай в 3-4 раза
выше, чем в единоличном крестьянском хозяйстве
В деле укрепления семейных уз дагестанской семьи немаловажное значение придавалось улучшению ее материального положения. Государство оказывало материальную поддержку многодетным семьям. За десять лет (с 1926 по 1936 г.) из союзного бюджета в Дагестане на пособие многодетным и одиноким матерям было израсходовано 26 млн руб. [11, с. 319]. Но и этих средств было яв- но недостаточно.
Проблема обеспечения детей школьными учреждениями в городах и на селе также оставалась острой, что создавало определенные трудности в воспитании подрастающего поколения и вовлечении женщин в отрасли народного хозяйства, общественно-политическую и культурную жизнь.
Для вовлечения дагестанцев, особенно женщин, в общественную жизнь необходимо было повысить грамотность. Первоочередной задачей культурного строительства являлась ликвидация неграмотности. Наряду со школой важная роль отводилась культурно-просветительным учреждениям: избам-читальням, клубам, библиотекам. Однако преодоление неграмотности было сопряжено с определенными трудностями. Так, в постановлении СНК ДАССР от 28 декабря 1928 г. «О положении работы по ликвидации неграмотности» отмечалось, что трудности заключались в многоязычии, отсутствии средств сообщения, связи, патриархально-родовом быте, бедности населения, отсутствии пособий и учебников на родных языках [13, с. 75].
Например, в 1933 г. начальным обучением было охвачено до 80% детей, тогда как девочки составляли 48% [13, с. 75]. Для повышения культурного уровня дагестанцев этот факт имел большое значение.
Выводы. К началу рассматриваемого периода ряд факторов способствовал сокращению численности населения Дагестана: последствия Гражданской войны, эмиграция, эпидемии. Снизилась рождаемость, росла смертность, особенно младенческая. В этой сложной обстановке республиканским органам власти предстояло претворить в жизнь новую семейную политику советской власти. Одной из трудных задач являлось раскрепощение женщины-горянки, что должно было способствовать изменению ее роли в семье, повышению ее статуса в обществе. С этой целью партийные организации проводили среди женщин-матерей определенную работу.
Вместе с тем у дагестанцев еще сохраняются пережитки патриархального быта – калым, многоженство, выдача замуж несовершеннолетних. Ориентир на многодетность все еще остается актуальным по ряду причин: дети считаются большой ценностью с перспективой их помощи в хозяйстве, наделения землей в зависимости от количества едоков и т.д. Хотя советская власть предоставила равные права горянке с мужчинами, фактически она остается зависимой от мужа и семьи. Однако первая Конституция Дагестана (1921 г.) предоставила женщине равные права с мужчиной во всех областях жизни, что способствовало постепенному отмиранию этих проявлений. Политика советской власти по охране материнства и детства призвана была содействовать раскрепощению женщины в быту, преобразованию внутрисемейных отношений. Эти мероприятия в какой-то мере содействовали новым отношениям и в дагестанской семье.
В этом контексте важным явилось и открытие родильных домов и женских консультаций, позднее – дошкольных учреждений. Однако такая форма не всегда находила поддержку у дагестанцев, поскольку противоречила традиционной установке на воспитание детей.
С проведением коллективизации и созданием колхозов положение женщины постепенно меняется. Горянка пошла работать в артель, что способствовало ее вовлеченности в общественную жизнь.
Ликвидация неграмотности также сыграла важную роль в улучшении положения женщины, предоставив ей возможность получения образования, карьерного роста и т.д.