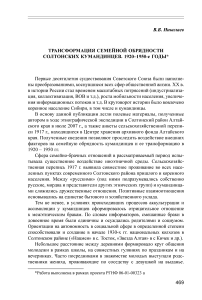Трансформация семейной обрядности солтонских кумандинцев. 1920-1950-е годы
Автор: Николаев В.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIII, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521388
IDR: 14521388
Текст статьи Трансформация семейной обрядности солтонских кумандинцев. 1920-1950-е годы
Первые десятилетия существования Советского Союза были наполнены преобразованиями, коснувшиеся всех сфер общественной жизни. XX в. в истории России стал временем масштабных потрясений (индустриализация, коллективизация, ВОВ и т.д.), роста мобильности населения, увеличения информационных потоков и т.д. В круговорот истории было вовлечено коренное население Сибири, в том числе и кумандинцы.
В основу данной публикации легли полевые материалы, полученные автором в ходе этнографической экспедиции в Солтонский район Алтайского края в июле 2007 г., а также анкеты сельскохозяйственной переписи 1917 г., находящиеся в Центре хранения архивного фонда Алтайского края. Полученные сведения позволяют проследить воздействие внешних факторов на семейную обрядность кумандинцев и ее трансформацию в 1920 – 1950 гг.
Сфера семейно-брачных отношений в рассматриваемый период испытывала существенное воздействие иноэтничной среды. Сельскохозяйственная перепись 1917 г. выявила совместное проживание во всех населенных пунктах современного Солтонского района пришлого и коренного населения. Между «русскими» (под ними подразумевались собственно русские, мордва и представители других этнических групп) и кумандинца-ми сложились дружественные отношения. Позитивные взаимоотношения основывались на единстве бытового и хозяйственного уклада.
Тем не менее, в условиях происходивших процессов аккультурации и ассимиляции у кумандинцев сформировалось отрицательное отношение к межэтническим бракам. По словам информаторов, смешанные браки в довоенное время были единичны и осуждались родителями и социумом. Ориентации на автономность в социальной сфере в определенной степени способствовали и создание в начале 1930-х гг. национальных колхозов в Солтонском районе («Нацмен» в с. Тосток, «Звезда Алтая» в с Кичек и др.).
Небольшое расстояние между деревнями формировало круг общения молодежи в рамках школы, на совместных гуляниях по праздникам и на вечеринках. Часто посредниками в знакомстве молодых выступали родственники жениха, проживающие по соседству с девушкой на выданье.
В результате большинство браков заключалось между жителями соседних сел, реже односельчанами. Возраст вступления в брак молодых людей был различным, но в основном около 20 лет.
Великая Отечественная война внесла свои коррективы в брачное поведение населения, как русского, так и кумандинского. Значительная часть мужчин брачного возраста оказалась в трудовой или действующей армии. Отсутствие мужчин и тяжелые экономические условия привели к снижению уровня брачности населения, сопровождавшегося сдвигами в семейно-брачной сфере: распространением межэтнических браков и, как следствие, «отмиранием» обычаев избегания и экзогамии, нарушением принципа старшинства при вступлении в брак (у некоторых информаторов старшие сестры так и остались незамужними).
В то же самое время ускорился процесс нивелирования традиционной культуры. Обряд сватовства стал постепенно исчезать в силу взаимосвязанных причин: распространения браков убегом, обнищания населения и проживания девушек у родственников в результате смерти, или гибели на войне родителей. Одновременно по тем же причинам перестали выплачивать калым и приданое, хотя все (в основном личные вещи), что приносила девушка в новую семью продолжалось рассматриваться в качестве приданого.
На смену традиционному свадебному обряду пришли вечеринки. В некоторых случаях молодая девушка переходила в дом супруга без совершения каких-либо ритуалов. Часто причиной этого было сиротство. Исключительным событием, которое запомнилось одному из информаторов, стала свадьба в 1957 г. в д. Сарыково Красногорского района, проведенная в соответствии с традиционными нормами.
Соблюдение традиционных норм в свадебном обряде постепенно становилось исключением из общего правила. Обычно это было характерно для торжеств, когда молодожены были из полных семьей, главам которых удалось вернуться с фронта и сохранить родственные связи взаимопомощи.
Свадьбу старались подгадать к осенне-зимнему сезону, когда снижалась занятость населения в колхозах. В период сельскохозяйственных работ обычно устраивали вечеринки или «однодневные» свадьбы.
На праздник съезжались родственники с обеих сторон, приходили соседи. Для невесты устанавливали шалаш, где ей незамужние родственницы заплетали две косы (после войны это обычно делали в углу комнаты за занавеской). Слева заплетала косу родственница невесты, справа – жениха. Приготовленную прическу обрызгивали водой. По окончанию обряда девушку выводили, и начинался свадебный пир, для которого готовили традиционные свадебные блюда (« тутпаш », конское мясо и т.д.). Если у брачующихся сторон имелись средства, то на второй день устраивали церемонию «мусор», ничем не отличавшийся от русского варианта, когда гости бросали на пол, в «мусор» , деньги для молодых.
Изменения под влиянием внешних факторов в рассматриваемое время происходили и в родильной и погребально-поминальной обрядности.
Вовлечение большинства кумандинцев в 1930-х гг. в колхозы привело к увеличению занятости населения. В результате женщины во время сельскохозяйственных работ часто рожали в полях. В 1940 – 1950 гг. стали предоставляться декретные отпуска, а роды проходили в больнице.
Обращение при родах за помощью к врачам стало обычным явлением лишь в послевоенные годы, когда медицинские пункты появились во многих деревнях Солтонского района. Лишь небольшая часть кумандинок по-прежнему прибегала к помощи народных знахарок в силу удаленности больниц, или недоверия к медицинским работникам.
В случае если роды начинались дома, то кто-нибудь из родственников отправлялся за повивальной бабкой (неважно русская, или кумандинка). Каких-либо традиционных обрядов и обычаев уже не соблюдалось. После родов повитуха вела роженицу в баню, где правила ей живот. За помощь при родах повивальную бабку благодарили полотенцем или отрезком ткани. В тот же день роженица приступала к работе по хозяйству.
Через некоторое время собирались гости «на зубок». Приходили обычно с подарками для младенца. Среди приглашенных обязательно присутствовала и повитуха, с которой после родов завязывались добрососедские отношения. Бабушки погружали ребенка в воду и нарекали именем, выбранным его родителями сразу после родов. Традиционная антропонимия в 1930-е гг. была полностью вытеснена русской. При случае, оказавшись в Бийске, детей крестили в церкви.
Продолжали соблюдать только некоторые традиционные послеродиль-ные обряды. Например, обряд первой стрижки волос, ногтей. Сохранялся запрет на изготовление колыбели, игрушек и одежды для будущего ребенка до родов. Значение многих запретов либо было не известно, либо трактовалось на современный манер. Например, в течение месяца новорожденного не показывали чужим людям, ребенка не подносили к зеркалу из-за боязни, что он долго не сможет говорить.
В послевоенное время многие послеродильные обряды исчезли или упростились. Так, перестали проводить обряд разрезания пут. Ноги младенцу уже не спутывали, а только имитировали разрезание, щелкая ножницами в воздухе. Перестали быть обязательными поездки с младенцем на показ по родственникам, хотя его брали с собой при поездках в гости. В этом случае хозяева одаривали маленького гостя.
Погребально-поминальная обрядность оказалась наиболее устойчивой к влиянию внешних факторов. Сохранилась последовательность действий в отношении умершего человека: обмывание, приготовление одежды и гроба, ночное бдение у тела, прощание с покойником, похороны, поминальный обед, поминки (9 и 40 день, год). Иногда кумандинцы призывали шамана для очищения дома.
Продолжал бытовать обычай класть в гроб личные вещи покойного (трубку с кисетом и т.д.). Видимо, еще в XIX в. к традиционному составу погребального инвентаря добавился нательный крестик. Надмогильным крестом погребение крещеного отличалось от других захоронений, на которых устанавливали столб. В селах, где коренное население было значительным, кладбище делилось на две половины: «русскую» и «татарскую» (кумандинскую). Родственников старались хоронить рядом.
В годы Великой отечественной войны произошло упрощение погребального обряда. К подготовке похорон стали привлекаться молодые люди 12 – 14 лет из-за отсутствия мужчин. Хоронили наспех и обычно на второй, а не на третий день после смерти. Гроб выносили в полдень, устанавливали на санях, и, привязав веревками, отправлялись на кладбище. В могилу, приготовленную заранее утром, опускали гроб на веревке. Затем каждый из присутствующих кидал по три раза землю. Иногда читали молитвы на кумандинском языке. У могилы раздавали сладости.
Значение большинства элементов погребального обряда современным кумандинцам неизвестно. Информаторы лишь констатируют соблюдение того или иного обычая. Например, никто не может объяснить запрет, уходя, оглядываться в сторону кладбища и т.д.
Появились и некоторые новые обычаи. Так, помимо традиционных поминок умерших, поминать их стали и в родительский день. Обязательным становится регистрация в государственных органах рождения, брака и смерти. Часто эти процедуры откладываются во времени. Нередко регистрация брака и рождения первенца (или усыновлением супругами ребенка) происходила одновременно, что совпадает с традиционными представлениями о переходном характере первого года совместной жизни.
К 1920 – 1950-м гг. этническая культура кумандинцев имела существенные отличия от традиционных устоев XIX в. Семейная обрядность аборигенов Солтонского района представляла собой синтез обрядов и обычаев разных этнических культур, соседствующих в регионе, при редукции традиционных элементов.
Мероприятия властей, направленные на создание унифицированной советской культуры, война и разруха, укрупнение совхозов и многое другое обусловило разрушение родовых, внутри- и межсемейных связей, а также прервало трансляцию опыта из поколения в поколение. В 1950-е гг. произошло вытеснение родного языка из сферы образования и даже из внурисемейного общения. В результате большинство информаторов 1920 – 1930-х гг. рождения, видевшие традиционные обряды в молодые годы, утратили знание их смысла и символики.