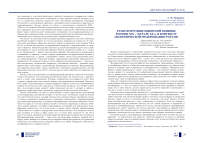Трансформация сибирской общины в конце XIX - начале ХХ в. в контексте экономической модернизации России
Автор: Курышов А.М.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Дискуссионный клуб
Статья в выпуске: 2 (4), 2006 года.
Бесплатный доступ
Модернизация, община, крестьянский мир
Короткий адрес: https://sciup.org/14723461
IDR: 14723461
Текст статьи Трансформация сибирской общины в конце XIX - начале ХХ в. в контексте экономической модернизации России
Н.П. Павлов-Сильванский
Теория модернизации в современной исторической науке стала настолько обычным методологическим принципом новой и новейшей истории, что вошла в школьные учебники. Сквозь призму модернизации рассматривается и экономическое, и политическое развитие России во второй половине XIX - начале XX в. Оно предстает как совокупность процессов, утверждающих в России рыночные отношения и политический либерализм.
Модернизация, по сути, рассматривается как превращение традиционных, уникальных и своеобразных обществ в общества индустриальные, развивающиеся по определенным законам и имеющие лишь историческую и географическую специфику. Обращение историков к теории модернизации в связи с этим понятно, - она позволяет придать историческому процессу ту линейность, тот необратимый прогрессивный характер, сформулировать те универсальные законы общественного развития, на основании которых можно отстаивать научность исторических исследований и давать отпор тем, кто считает историческую науку лишь литературным жанром.
Даже при поверхностном взгляде процессы общественного развития в разных странах обнаруживают некоторую асинхронность, объясняемую различными темпами и формами модернизации, т. е. тем, что свидетельствует об органической связи традиции и модернизации. Это, в свою очередь, должно предполагать различные варианты модернизации, в том числе в той ее части, которая заключает цели.
Экономическая модернизация связывается с трансформацией традиционного хозяйства как системы в хозяйство индустриальное. В широком смысле трансформация - это любое изменение. Но изменения бывают разные: они могут касаться формы и содержания явления, связей системы и непосредственно ее элементов, они могут придать системе новое интегративное качество, а могут совершенно ее разрушить. Если мы говорим о трансформации как об изменении системы, мы тем самым признаем ее сохранение в результате трансформационных процессов. Если мы заведомо признаем трансформацию превращением, следует признать, что система перестает существовать, по крайней мере в прежнем виде. Обе позиции грешат тенденциозностью, поскольку общий результат трансформации, достигнутая ею цель заранее предопределены выбором толкования термина.
Разумный подход к идентификации трансформации должен быть основан как раз на обратном - на определении цели процесса. «Единство вырастает из смысла, к которому движется история, смысла, который придает значение тому, что без него было бы в своей разбросанности ничтожным»1.
Наиболее полно разработанная и популярная теория модернизации, теория стадий экономического роста У. Ростоу, переход из стадии в стадию, в том числе от «традиционного общества» к «индустриальному», связывает с научно-техническим прогрессом, развитием технологий. В послевоенной литературе существуют четыре направления анализа экономического развития традиционных обществ: 1) модель линейных стадий роста; 2) теория структурных преобразований; 3) революционная теория (предполагающая внешнюю зависимость общества); 4) неоклассическая контрреволюция на основе идей свободного рынка. Все эти теории, однако, целью процесса экономической трансформации видят установление рыночных отношений в различных их формах (от «государства всеобщего благоденствия» и «демократического социализма» до «общества потребления»).
Вот некоторые признаки модернизации, выделенные западными учеными и взятые на вооружение современными отечественными исследователями: 1) право на владение и распоряжение собственностью; 2) свободное формирование объединений; 3) законодательное закрепление и неотчуждаемость гражданских и политических прав человека; 4) представительное правление и разделение властей; 5) экономический и политический плюрализм; 6) вертикальная и горизонтальная социальная мобильность; 7) рациональная бюрократия. Очевидно, что в соответствии с этой теорией процесс изменения традиционного хозяйства, не приведший к формированию рыночной (другими словами, капиталистической) экономики, не имеет права называться модернизацией.
Отступить от позиций европоцентризма и вообще поднять учение об экономическом развитии на качественно новый уровень попытался К. Поланьи, один из основоположников субстантивизма. Он называл «великой трансформацией» процесс выделения экономики из социальной сферы, ее «автономизацию». Экономические отношения при этом не только перестают подчиняться социальным институтам, но превращаются для них, в свою очередь, в довлеющую силу. Обмен для К. Поланьи является лишь формой экономической деятельности, наряду с реципрокностью (взаимностью) и редистрибуцией (перераспределением)2. В ходе «великой трансформации» обмен обычно превращается в главную форму, но это не означает полное отступление от использования других экономических форм. Более того, сам Поланьи считал, что формирующийся в результате «великой трансформации» так называемый саморегулирующийся рынок не является в полном смысле прогрессивным для человечества, поскольку в нем интересы всего общества оказываются на втором плане по отношению к интересам немногих, владеющих основными средствами производства. Такое понимание поступательного развития экономики позволяет более широко, более объективно интерпретировать процессы изменения хозяйственных традиций.
Видный русский экономист начала XX столетия профессор А.А. Мануйлов в октябре 1917 г. называл целью экономического развития развитие производительных сил. Под условиями развития производительных сил А.А. Мануйловым понимались «поднятие продуктивности почвы как основного фактора сельского хозяйства, широкая разработка естественных богатств и максимальное повышение производительности труда»3. Здесь, во-первых, под экономическим развитием имеется в виду реконструкция экономической структуры в соответствии с новыми условиями, новыми социально-экономическими и политическими реалиями, во-вторых, успешность развития ставится в зависимость от форсированной эксплуатации природных ресурсов. В итоге данный процесс не обязательно должен привести к формированию рыночной экономики. Государство может взять на себя часть обязанностей по контролю над экономическими отношениями. Применительно к традиционному хозяйству это будет означать не просто ликвидацию традиционного хозяйства как системы, что обяза- тельно произойдет при модернизации по западному образцу, а перенесение такой функции общества, как контроль за индивидуальной экономической деятельности, на государство.
Если предположить, что экономическая модернизация не обязательно обозначает переход к экономической модели западного мира, основанной на рыночных отношениях, свободе предпринимательства и институте частной собственности, а служит проявлением адаптации экономических отношений к новым условиям, оптимизации хозяйственной деятельности на данном временном отрезке (что и будет выглядеть прогрессивным в сравнении с предыдущим этапом общественного развития), то можно объяснить упомянутую асинхронность процессов модернизации в разных странах мира. Применительно к России такое понимание модернизации снимает противоречия между выделяемыми исследователями формирующимися признаками индустриального общества и наличием тех черт экономического развития, которые не укладываются в схему и которые поэтому приходится связывать с малопонятным и в еще большей степени малоинформативным термином «многоукладность». В широком смысле экономическая модернизация может пониматься как любая прогрессивная трансформация экономических институтов (т. е. такое изменение, которое приводит к оптимизации экономической деятельности в сложившихся условиях).
Важным моментом в связи с вышесказанным также является выбор тех феноменов, трансформация которых рассматривается исследователем. Изначально теория модернизации ориентирована на то, чтобы рассматривать в качестве предметов исследования политические, социальные, экономические институты - государство, сословия, формы организации экономической деятельности. Но, когда требуется найти признаки модернизации обществ, сильно отклоняющихся от западного вектора развития, исследователи часто отказываются от институционального подхода. Например, модернизация в аграрном секторе Сибири связывается с развитием товарных отношений на селе, интенсификацией сельского хозяйства, сельскохозяйственным освоением новых земель. Но справедливо ли этими фактами обосновывать направления модернизации, если они не отражают изменений, происходящих в главном аграрном экономическом институте - земледельческой общине?
Попробуем взглянуть на аграрную модернизацию Сибири на рубеже XIX-XX столетий с точки зрения институционального подхода.
Сибирская земледельческая община XIX в. представляла собой по отношению к общине Европейской России явный реликт. В ней обнаруживались все те признаки, которые были характерны для русской общины XV-XVII вв., а именно: отсутствие регулярных переделов земли, так называемое захватное землевладение (когда земля бралась крестьянином «по силе», а не предоставлялась в принудительном порядке), развитое самоуправление. «Владение землею называлось силою и посилъем, определялось и ограничивалось только мерою сил, трудов и средств поселенцев, почему и говорилось и писалось : «куда топор, коса и соха ходили», или «сколько силы было», т. е. сколь далеко хватали средства и труды владельцев... дотоле простиралось и поземельное владение, посилъе..»4
В Европейской России указанные признаки общины начиная со второй половины XVI в. и до петровских реформ, постепенно заменяются принудительным уравнительным наделением землей. Этот процесс стартует на владельческих землях, а затем, с введением Петром Великим подушной подати и круговой поруки, распространяется и на земли государственные. В течение XVIII - первой половины XIX в. старая русская «волостная» (по определению Н.П. Павлова-Сильванского) община полностью вытесняется общиной уравнительной в западной России. В Сибири же, благодаря наличию свободных земель, пригодных для земледелия, и отсутствию крепостного права, волостная община сохраняется.
Однако в конце XIX в. государство начинает наступление и на сибирскую общину. Суть этого наступления состоит в ограничении общинного землепользования. Причины этого мероприятия разнообразны и требуют отдельного серьезного разговора. Среди них и стремление властей решить проблему малоземелья в Европейской России за счет «освободившихся» в Сибири земель, и геополитические соображения, и необходимость освоения сибирских пространств и включения его населения в общероссийскую экономику. В любом случае эти причины были обусловлены государственными соображениями. Нас интересует в первую очередь трансформация общинных отношений, ставшая итогом проводимых государством мер.
Основой реформы землепользования сибирских крестьян стал Закон от 23 мая 1896 г.5, согласно которому земельные наделы сибирских крестьян и «инородцев» (кроме «бродячих») ограничивались 15 десятинами на душу мужского пола6. Сверх того, на каждую душу мужского пола полагался лесной надел в количестве трех десятин7. Землепользование «инородцев» и их переход в крестьянское сословие определялись еще и Правилами от 4 июня 1898 г.8 В результате проведения реформы «инородцы» должны были лишиться значительной части своих земель, которая перераспределялась в пользу малоземельных крестьян-старожилов, и составляла колонизационный фонд в интересах переселения крестьян из европейской части Российской империи. Кочевые «инородцы», на территориях которых землеустроительные работы были завершены, причислялись к оседлым, уравниваясь в правах и обязанностях с русским крестьянским населением9. Такое причисление подразумевало ликвидацию старого административно-территориального устройства и утверждение на территориях инородцев единообразной для всей России волостной организации, что и было санкционировано волостной реформой 1901 г. Одновременно с 1 января 1899 г. подушные сборы и ясак заменялись поземельной (для личного пользования) и оброчной (для общественного пользования) податями10.
Процедура проведения реформы землеустройства не сводилась к простому изъятию «инородческих» земель. Она представляла собой целый комплекс работ, значительно растянутых во времени и поставленных в зависимость от множества факторов. На первом этапе проводились топографическая съемка местности, предварительное, а затем и оконча- тельное проектирование наделов. Эту работу приходилось повсеместно начинать с нуля, поскольку предыдущие проекты планов местности либо были неудовлетворительны по качеству, либо просто отсутствовали. Успешность землемерных работ во многом зависела от предоставления местным населением рабочих и лошадей. На втором этапе проекты земельных и лесных наделов представлялись сельским сходам, затем, при условии одобрения, передавались на рассмотрение поземельно-устроительной комиссии, которая либо утверждала надел, либо возвращала проект в партию на доработку. Если по прошедшему комиссию проекту поступали жалобы, что случалось достаточно часто, он передавался на рассмотрение Общего присутствия Губернского управления11. Утвержденные комиссией и Общим присутствием наделы считались окончательно отграниченными и по ним составлялись так называемые отводные записи. Отводные записи были документами, официально дающими право на пользование наделами. На третьем этапе отводные записи рассматривались Старшим чиновником по составлению отводных записей, и, если санкция Старшего чиновника была получена, вручались населению. После вручения отводных записей проекты возвращались в землеустроительную партию «для исполнения в натуре» (устройство межников, просек, межевых столбов и ям), прекращалось старое землепользование и землеустройство считалось законченным12. «Только с получением документов общества и селения приобретают уверенность в своих правах на отведенную землю», - утверждалось в «Объяснительной записке к плану работ по поземельному устройству и образованию переселенческих участков в Иркутской губернии на 1910 г.»13 Крестьяне, в том числе «инородцы», имели право в установленном порядке обжаловать результаты межевания. На каждом этапе процедуры формирования новых наделов проекты могли быть возвращены на доработку или вообще отклонены.
Формулировки законов 1896 и 1898 гг. предоставляли местным администрациям широкие полномочия для изменения 15-десятинной нормы, если того требовали обстоятельства. Согласно ст. 9 Главных оснований от 23 мая 1896 г., если обмеренные земельные участки обществ составляли более 15 десятин надушу, они могли остаться в пользовании населения при условии доприселения членов общества. Однако по ст. 10 того же закона, по ходатайствам обществ, при одобрении местных властей, земли могли быть оставлены в пользовании жителей селений и без доприселения14.
С учетом особенностей хозяйства сибирских крестьян им предоставлялся ряд привилегий. Например, если «инородцы» не соглашались на доприселение, им давалась возможность по своему усмотрению выбрать надел по 15 десятин на душу мужского пола15. Срок, в течение которого сельские жители могли «обдумывать», приселять дополнительных членов в общество или не приселять, устанавливался в три года, считая с 1 января года, следующего за выдачей отводных записей16. Сверх того, бурятам были предоставлены во временное пользование выгонные степи в размере около 15 десятин на душу мужского пола17. В тех ведомствах, где землеустроительные работы были закончены, а наделы определены, согласно ст. 22 Правил от 4 июня 1898 г., обычной была практика закрепления в бесплатное пользование расчищенных пашен, не вошедших в надел, сроком на пять лет, считая с 1 января года, следующего за отграничением надела. Прочие пашни оставались в бесплатном пользовании сроком на два года18. Также предполагалось оставить в казне степные пространства с предоставлением права инородцам пользоваться ими на льготных условиях в интересах скотоводства19. При отводе земель в первую очередь включались в надел усадьбы, присельные выгоны, пашни, переделяемые покосы, сенокосные расчистки, общественные заказные рощи, семейные и душевые лесные участки20. Если в земельный надел входили лесные насаждения, уничтожение которых властями признавалось нецелесообразным, они включались в лесной надел, а община получала компенсацию в виде прирезки соответствующего количества земель21. Земли сорокалетнего пользования оставались в пользовании сельчан до окончания срока, рыболовные воды, не вошедшие в надел, оставлялись в бесплатном пользовании на неограниченный срок22.
Реформа не была закончена к 1917 г. Например, по Иркутской губернии было запроектировано 77,1 % наделов, отграничено 54,6 %, а выдано отводных записей на 37 % наделов23. Но нас интересуют те направления развития общины, которые были ей приданы реформой.
Во-первых, государство, как ив 1861 г. в отношении бывших крепостных крестьян, фактически закрепило общинное пользование землей. Вообще, государство при проведении реформы имело отношения не с отдельными лицами, а только с общиной. При этом, хотя община имела возможность на различных этапах землеустройства так или иначе влиять на ход землеустроительных работ, права отказаться от землеустройства она не имела.
Во-вторых, была подтверждена государственная собственность на землю, которой пользовались крестьяне. Последнее обстоятельство очень важно, так как крестьяне, «особенно инородцы», считали землю своей, и во время проведения землеустроительных работ это приводило к многочисленным недоразумениям24. Отвод земель являлся не только реализацией идеи правового закрепления общинного землепользования, но и актом, подтверждающим верховное право государства на землю.
В-третьих, государство произвело уравнительный передел земли, предоставив право общине в дальнейшем самостоятельно производить такие переделы.
В-четвертых, уравнительному переделу подверглись не только земли общин русских крестьян-старожилов, но и земли инородцев, т. е. коренного населения. При этом после окончания землеустройства на «инородцев» распространялся и общий порядок административного устройства и управления.
В-пятых, крестьяне-переселенцы, ради наделения которых землей во многом и была задумана реформа, как правило, не селились отдельными общинами, а доприселялись в общины уже существующие.
Таким образом, налицо стремление государства привести сибирское землепользование и сибирскую общину в соответствие с землепользованием и общиной Европейской России, стремление унифицировать порядок землепользования на всей территории страны. Можно утверждать, что реформа сибирского землепользования стала важным шагом в процессе постепенного превращения сибирской волостной общины в общину уравнительную.
Если рассматривать данный процесс в контексте экономического развития России, то он выглядит обстоятельством закономерным и объективным. В свое время Н.П. Павлов-Сильванский, известный исследователь российского феодализма, выделил три периода русской истории по признаку господствующих «начал социального и государственного строя» (которые, исходя из логики Николая Павловича, сводятся к порядку землевладения): 1) мир (община); 2) боярщина (сеньория); 3) государство25. Согласно этой концепции, с XVI по XIX в. «основным учреждением» России является сословное государство, которое, в частности, присваивает земельную собственность, последовательно подчиняя себе феодальные земли (через уничтожение вотчин и раздачу поместий) и общины государственных крестьян. Реформу 1861 г. Н.П. Павлов-Сильванский считал началом переходного периода к следующему этапу - «свободному гражданскому порядку». Однако, что касается общины, политика государства не изменилась.
С середины XVI и в XVII в. государство выступает инициатором превращения волостной захватной общины в общину уравнительную (через утверждение крепостного права и обложения государственными податями и повинностями вотчинных и монастырских крестьян). Одновременно ликвидируются владения удельных князей и терроризируются боярские вотчины, растет поместное (бенефициальное) землевладение. В XVIII в. оба процесса (эволюция общины из волостной в уравнительную и феода из аллода-вотчины в бенефиций-поместье) логически завершаются Петром Великим и его преемниками на европейской территории России. В XIX в. ликвидируются последние островки старого общинного захватного землевладения на севере Европейской России и Манифестом от 19 февраля 1861 г. закрепляется уравнительное общинное землепользование. В 1893 г. при поддержке С.Ю. Витте принимается закон, затрудняющий выход крестьян из общины и запрещающий залог и продажу надельных земель. А к концу столетия государство добирается и до бескрайних сибирских просторов. Объективно все эти меры способствуют централизации государства, росту его доходов.
Представляется, что, по крайней мере, аграрная модернизация России имеет несколько иной вектор, нежели модернизация европейская. Как известно, в Европе бенефициальное держание, эволюционировавшее в аллод, и развитие общины-марки привели в конце концов к появлению частной собственности на землю. В России общинная собственность на землю сменилась собственностью государства, при этом волостная община, соответствовавшая европейской марке, развивалась (при прямом вмешательстве государства) в сторону усиления контроля общины над индивидуальным землепользованием. Общему направлению экономического развития Европы - индивидуализации экономической деятельности - противостояло направление экономического развития России - усиления общественного и государственного контроля над экономической активностью индивида. Те изменения, которые наметились в сибирской общине на рубеже XIX-XX вв., были частным проявлением таких процессов.
В данной связи особняком стоит реформа П.А. Столыпина, разрушавшая общину. Однако столыпинская реформа имела конкретную причину - революцию - и конкретную цель - ликвидацию условий роста революционных настроений в деревне. Становятся понятными причины провала реформы Столыпина, популярности эсеровского проекта «социализации» земли и удачи советского эксперимента с коллективизацией - все это укладывается в рамки того вектора аграрного развития России, который был ей задан историей и географическим положением.
Список литературы Трансформация сибирской общины в конце XIX - начале ХХ в. в контексте экономической модернизации России
- Ясперс К. Смысл и назначение истории//Философия истории: Антология. М., 1995.
- Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс//Экономическая социология. 2002. Т. 3, № 2.
- Мочалова И. Архивная находка. Профессор А.А. Мануйлов: «Путь спасения России может быть только один…»//Родина. 1994. № 1.
- Щапов А.П. Историко-географическое распределение русского народонаселения//Человек и природа в истории России XVII-XXI веков. Приложение. Иркутск, 2002.
- Высочайше утвержденное 23 мая 1896 г. мнение Государственного Совета о главных основамниях поземельного устройства крестьян и инородцев, водворившихся на казенных землях губерний Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской//Сборник узаконений и распоряжений по поземельному устройству крестьян и инородцев, водворившихся на казенных землях губерний Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской. СПб., 1898.
- Положение об инородцах//Свод законов Российской империи (в четырех книгах). Книга первая. Т. 1 -4. М., 1910.
- Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 171. Оп. 1. Д. 218.
- ГАИО. Ф. 171. Оп. 3. Д. 33.
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1797. Оп. 1. Д. 542.
- Правила о зачислении в лесные наделы по губерниям Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской и по области Забайкальской, лесных насаждений, входящих в состав окончательно отграниченных в прежнее время наделов, а также общественных заказных рощ и семейных и душевых лесных участков. Ст. 2//Сборник законов и распоряжений по переселенческому делу и по поземельному устройству в губерниях и областях азиатской России. СПб., 1909.
- ГАРФ. Ф. 1797. Оп. 1. Д. 542.
- Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. М., 1988