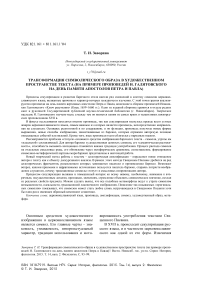Трансформация символического образа в художественном пространстве текста (на примере проповедей И. Галятовского на день памяти апостолов Петра и Павла)
Автор: Заворина Татьяна Ивановна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: К 100-летию со дня рождения профессора Кирилла Алексеевича Тимофеева
Статья в выпуске: 2 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Процессы секуляризации и развития барочного стиля внесли ряд изменений в систему символов церковно-славянского языка, вызванные причины и характер которых нуждаются в изучении. С этой точки зрения анализируются проповеди на день памяти верховных апостолов Петра и Павла, вошедшие в сборник проповедей Иоанникия Галятовского «Ключ разумения» (Киев, 1659-1660 гг.). Одно из изданий сборника хранится в отделе редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки (г. Новосибирск). Творческое наследие И. Галятовского изучено мало, а между тем он является одним из самых ярких и талантливых южнорусских проповедников XVII в. В фокусе исследования находится именно проповедь, так как секуляризация коснулась прежде всего устных жанров церковнославянского языка, самым важным из которых является проповедь, непосредственно направленная на слушателя. Оставаясь религиозной и по содержанию, и по функции, проповедь получила новые формы выражения, новые способы изображения, заимствованные из барокко, которые отражали авторскую позицию описываемыхсобытий или явлений. Кроме того, язык проповеди тесно сблизилсяснародным языком. Рассматривается проблема «статуса» основного средства изображения барочного текста - символа, утраты им «идеальной» составляющей. Для автора барокко художественная ценность символа, его «семантическая растяжимость», способность вызывать ассоциации становятся важнее традиции употребления. Процесс распада символа на отдельные смысловые ряды, его обновление через метафорическое сравнение, сопоставление, формирование символико-метафорической картины мира бароккопредставлены внастоящей работе. Новый творческий метод работы с текстом - аллегорическая амплификация - определяет новое отношение автора к тексту как к объекту дискурсивного анализа. В рамках этого метода Священное Писание дробится на ряд аллегорических фрагментов, разъяснением которых занимаются писатели и проповедники барокко. Возникает вопрос, какими приемами и нарративными источниками пользуется писатель барокко, стараясь потрясти воображение слушателя, почему традиционные символы «тонут» в смысловыхимпровизациях автора. Процессом секуляризации вызваны и повышенный интерес ко всему новому, необычному, внимание к вто-ричным, несущественным деталям, признакам, значениям, стремление объяснить символическое значение, исходя из реальных свойств предмета. Можно сделать вывод, что все подобные метаморфозы ведут к утрате символом возвышенности, идеальности, традиционной лаконичности изображения. Появление так называемых «оригинальных символов» показывает, что символом может стать любое слово, встречающееся в Священном Писании хотя бы один раз и имеющее образный компонент семантики.
Церковнославянский язык, проповедь, амплификация, символ, художественный образ, метафора
Короткий адрес: https://sciup.org/147219292
IDR: 147219292 | УДК: 821.161
Текст научной статьи Трансформация символического образа в художественном пространстве текста (на примере проповедей И. Галятовского на день памяти апостолов Петра и Павла)
Основным средством художественного изображения в церковнославянском языке является символ. Его главные черты – знаковость, узнаваемость, интертекстуальный характер, традиция использования и моти- вированность употребления текстами Священного Писания.
В XVII в. происходит секуляризация русского языка, и в частности церковнославянского как одной из его форм. Изменения
Заворина Т. И . Трансформация символического образа в художественном пространстве текста (на примере проповедей И. Галятовского на день памяти апостолов Петра и Павла)// Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 2: Филология. С. 93–99.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 2: Филология
в церковнославянском языке коснулись прежде всего устных жанров, а именно проповеди, которая непосредственно была обращена к слушателю и должна быть доступной, убедительной, яркой, выразительной, назидательной и строго следовать христианским догматам. Оставаясь религиозной и по содержанию, и по функции, проповедь получила новые формы выражения, новые способы изображения, заимствованные из барокко, которые отражали авторскую позицию описываемых событий или явлений.
Цель нашей работы – рассмотреть изменение такой идеальной категории, как символ, в жанре церковного красноречия – проповеди – в связи с секуляризацией языка.
Источником для исследования послужил сборник проповедей Иоанникия Галятов-ского «Ключ разумения», который был издан в Киеве в 1659 г. А в 1660 г. в Киеве вышло приложение к нему – «Казаня, при-данныи до книги Ключ разумения», «Наука короткая, албо способ зложення казаня» и «Чуда пресвятой Богородици некоторые». Одно из немногочисленных изданий этого сборника хранится в отделе редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки (Новосибирск). Оно представляет собой объединение вышеуказанных сочинений Галятовско-го и собранных в одну книгу. Это одна из так называемых храмовых книг – ранее она передавалась в пользование храму, о чем свидетельствует соответствующая надпись в книге.
Исследователь творчества южнорусских авторов XVII в. Н. Ф. Сумцов выделяет И. Галятовского из всех современных ему проповедников «по умственным дарованиям и начитанности»; «…лучшие литературные произведения принадлежали его перу. В Га-лятовском Южная Россия нашла талантливого и ученого деятеля, бойца за православие» [1884. С. 2].
В определении нового творческого метода работы автора с текстом мы следуем за Л. В. Левшун, которая называет его аллегорической амплификацией (от лат. amplifi-catio – «расширение»). «Священное Писание воспринимается автором как ряд аллегорий, в которых сокрыта Истина» [2009. С. 121]. Текст полон загадок, «иероглифов» (поэтому особенно популярны Апокалипсис и разные «видения» пророков). «Задача автора – расшифровать хотя бы некоторые из них…»
[Там же], и расшифровка эта может быть самой неожиданной, непредсказуемой.
Священное Писание как бы «препарируется» автором. Из него извлекаются все возможные смыслы, насколько это позволяет сделать авторская эрудиция. И смыслы эти могут быть ассоциативными, весьма отдаленными друг от друга. Для автора важен не результат, а сам процесс, так как именно в процессе он может показать свое мастерство [Там же. С. 121–122]. Ему интересно показать не то общее, традиционное, типологическое, что знала древнерусская литература, а найти нечто новое, не увиденное ранее, раскрыть доселе не известное, удивить, потрясти воображение слушателя. Поиск нового предполагает б о льшую свободу творчества, б о льшую свободу в интерпретации.
Естественно, что при таком методе работы (аллегорическая амплификация) символ становится очень вариативным, он может развивать новые значения, может «дробиться» в тексте, создавая цепочки новых символико-метафорических образов, связанных друг с другом лишь ассоциативно [Бычков, 1999. Т. 2. С. 153–162] Традиционная символика как бы тонет в смысловых импровизациях автора, который, занимаясь эгзегети-кой, пытается найти все новые смыслы и значения известных символов. Для него важно привлечь как можно больше дополнительного материала, привести как можно больше ссылок, словно авторитетности самого Священного Писания уже и недостаточно. Повышенный интерес ко всему новому, необычному; внимание к вторичным, несущественным деталям, признакам, значениям; попытки автора создать новые символы, а также стремление объяснить символическое значение, исходя из реальных свойств предмета, – все это снижает сакральную целостность символа, переводит его из мира «верхнего», мира идей, в «мир дольний», мир вещей.
Для анализа мы использовали проповеди на день памяти верховных апостолов Петра и Павла. В современном православном сознании образы апостолов слились в единое целое, поэтому слова, сказанные о Петре и Павле блаженным Августином более пятнадцати веков назад, звучат сегодня актуально, как никогда: «В один день совершаем память страдания апостолов этих, ибо, хотя они пострадали и в разные дни, но по духу и по близости страданий своих они составляют одно» 1.
Символами апостолов у Иоанникия Га-лятовского являются: 2 кланяющихся снопка , 2 пестрых прутка / палки , 2 светила ( луна и солнце ), 2 каменные скрижали , 2 золотых херувима , 2 серебряные трубы , 2 медных столпа , 2 сосца.
Эпиграфом к первому Слову служит строка из Псалтыри: OTayua 6w$aaoo ё Тёаёабопу , laoapйa nElafa naTy , Абуаоиа $а ТбiёaбO OaaTnoi^ , aqal ё^иа ббёTyOё naTy (Пс. 125 : 6).
Вся проповедь – это развернутое объяснение строки псалма, с привлечением многочисленных аналогий, сопоставлений, сравнений и образов. Толкование каждого фрагмента является законченной самостоятельной частью проповеди, и в конце каждой части дано обобщение – вывод, в котором раскрывается аллегорический (духовный) смысл строки в сопоставлении с трудами апостолов.
В раскрытии фрагмента « метающее семена своя » автор вводит в повествование две притчи – о зерне (Иоан.12 : 24) и о сеятеле (Лк. 8 : 5). Сначала автор приводит традиционные символические значения: в притче о зерне Иисус Христос – зерно , а в притче о сеятеле Иисус Христос – сеятель , зерно – слово Божье, а земля – сердце человека и сам человек. ОТа Qa6TT ТоаТё^-ТТа Qa9nT9 A$96T пЕуёё аи пбоЬ naTal и aa66Tafoe атей Tao6u ё Taaaёй ё nosa .
И сразу, чтобы потрясти воображение читателя, автор рассказывает о явленных чудесах (тяга к чудесам вообще свойственна барочной проповеди). И здесь при растолковании символа перевес оказывается на «материальной» стороне, причем настолько ощутимо, что перед нами уже не образ, а именно предмет. Символ как бы «материализуется», автор доказывает, что в сердце можно буквально посеять Христа, и многие мученики подтвердили это.
Так, св. мученик Игнатий (ученик евангелиста Иоанна) все время думал о Христе, а когда он умер, то 1Tбaaбoё айТуааё с TaaT n6da , бTcбEcaёё Та aaTa , ё оа0ёё oal и zTёTOй1ё ёEOaбa1 ё ^a^ёna^Ta Ely 2n9On9
Так, св. Маргарита (жемчужина) все время думала о Рождестве Иисуса Христа, а когда она умерла, то в сердце ее нашли прекрасную жемчужину ( ёT 0OT af op I aбёб ), на которой был запечатлен образ Рождества Христова, и на нем сама Маргарита стояла на коленях перед младенцем Христом, лежащим в яслях.
Так, св. Клара все время думала о муках Христа: о терновом венце, о столпе бичевания, о кресте и т. п. А когда она умерла, то С1а0ёё a n6do aё Oa9Ta ЁбоЕ 6aniyoTaw , оа0ёё aETaou oaбfTaйё , оа0ёё noTeiu ё ёТойё ёГno6o1 afoa 1 бёё Oa9ё.
А далее, говоря о деяниях апостолов Петра и Павла, автор употребляет в переносном, метафорическом, значении слова зерно , сеятель и сеять . Сеятелями названы апостолы, которые сеют в сердцах людей зерна добрых дел, зерна слова Божьего; и в конце жизни сеют в землю, как зерна , свои тела. В качестве подтверждения он приводит слова апостола Павла: ^Еуё nёбaTnOip , nёбaTnOф TT$Taou , а nEyё au aё8a^iё , au aёsTnёTaaГiё TT$Taou (2 Кор. 9 : 6). Зерном называются милостыня, уё1б$Т а , и добрые дела: ^Еуёё OTa ^anE^ua , уё1б$Тб , aa66T-тоё ат ей Yao6u ё Taaaёй ,_ aaaaёё 6T - би1и caT6Taa , 1 a6OaO1 и жёaTOй „ . Затем приведены обширные примеры из деяний апостолов.
Раскрывая символическое значение зерно - ‘слово Божье’ ( т anE^ al и ^acйaaaony NёT aT АжЙ ), автор вводит в повествование известную притчу о сеятеле (Лк. 8 : 5) и сначала дает к ней подробный комментарий в традиционном ключе: сеятель – ‘Иисус Христос’, зерно – ‘слово Божье’, птица при дороге – ‘дьявол’, тернии – ‘суета, мирские заботы’ и т.д., а затем в образе сеятелей показывает Петра и Павла: ^Еуёё OTa ^anE^y (зерно) nёT aT А$9з Т а nбoaбй ёpanёёбй AaббTa^йё аТей Iao6 ё Taaaёй , aT Таб^аёё ёpaaё aE6u ё u^ёfёTaй (дел) aTaбйбй , 6T-ау^ё TT naEOб.
И в завершении толкования этого фрагмента И. Галятовский циклично возвращается к первой притче – о зерне, в которой лексема зерно получает новое значение – ‘тело человека’: ^anE^a1й ^acOaaaOny OE-ёT Т a0a. Обращаясь к слушателю, проповедник назидательно поясняет, что, как зерно, попав в землю, должно погибнуть, что- бы прорасти, так и тело человека после смерти «прорастет», восстанет в судный день: *ёёИ aac ul ёбааои, пЕёои оЕёТ aaw аи qal ёё, ноши wTT QfTao айбТпоаои аи аТ9 wnOаO^iё^ Так и верховные апостолы оТа ТапЕТу, оБёа naTё пЕуёё Та сalёё, аТ ааёё оЕёа паТё Та l бёё ё Та Шбой са 0а9
Таким образом, объединение в одном фрагменте двух притч позволило автору наиболее полно, многогранно показать символику слов зерно , сеятель , земля , воскресив в памяти слушателя евангельские события.
Раскрывая смысл последнего фрагмента aqal ё^иа ббёТуоё (снопы) паТу ... , автор поясняет: боеТуоё n^wТёё С1а:аои (снопы, урожай), в духовном смысле – это означает видение лица Божьего. Как люди на земле насыщаются урожаем, так святые на небе насыщаются духовной пищей, трапезой духовной - видением лица Бога: Ос1 и аё - aETialu ёёоа АжШ абабои ТапСиаоёпу .
Ассоциативно для амплификации автор вводит в проповедь рассказ о сне Иосифа (Быт. 37 : 7) о снопе стоящем (означает Иосифа) и снопках кланяющихся (означают его братьев). Поскольку одним из прообразов Иисуса Христа в Ветхом завете является Иосиф, автор разъясняет: пТТТ noTу^iё -‘Иисус Христос’, а пТТТёё ёёа^у^^iёnу -‘апостолы Петр и Павел’. Таким образом, лексема снопки имеет в тексте 2 символических значения: 1) ‘духовные плоды, урожай’; 2) ‘апостолы Петр и Павел’. На основании первого значения ‘духовные плоды’ автор весьма вольно создает новый символ, не имеющий традиции употребления: Петр и Павел – пестрые прутья , ссылаясь на книгу Бытия (Быт. 30 : 37–41). В этом отрывке рассказывается, как праотец Иаков клал в корыта, из которых пил скот, прутья пестрые , и скот, глядя на эти пестрые прутья , зачинал добрый плод, и родился пестрый скот, который Иаков оставлял себе. В основу сравнения здесь положен общий и весьма отдаленный признак – «рождение доброго плода», а также очень значимо слово пестрый , или испещренный , в данном контексте – ‘испещренный добрыми делами, добродетелями’.
Далее автор создает развернутую символико-метафорическую картину (частично в переводе на русский язык): «Православные христиане, и мы имеем те пестрые прутья, верховных апостолов Петра и Павла, которые разными добродетелями и добрыми делами, как разными пестротинами, украшены, и посмотрим же и мы на те пестрые прутья, на св. верховных апостолов Петра и Павла, посмотрим на их житие, и глядя на них, абаа1Т аи пбоб паТа1и са^ёТаоё ТёТаи ТпобСё, абаа1 Т а пбоб паТal и l Еоё бТс-l аёоСа ОТТоС (добродетели), ё аТабСё и^ёТёё (дела), уёи бТ ql аёоСё ТпобТоё-ТС^
Во втором Слове на верховных апостолов Петра и Павла автор использует и традиционную символику, но творчески перерабатывает ее, наполняя новым содержанием, и создает новый символический образ: два светила ( луна и солнце ), две каменные скрижали , два золотых херувима , две серебряные трубы , два медных столпа , два сосца.
Эпиграфом к проповеди служит строчка из Апокалипсиса, в которой апостолы названы привычными традиционными символами, повторяющимися во введении несколько раз: ааа lаnёё^С ё ааа паЕиТёёа . Но с художественной стороны эти образы не интересны для проповедника, так как являются просто номинативными единицами. Автор видит свою задачу в другом – показать, как он сам говорит, другие, новые «имена» (символы) апостолов и объяснить их.
Используя прием аллегорической амплификации, Галятовский значительно «расширяет» проповедь, обновляет значение символов, выстраивает их в определенном порядке. На первый взгляд, может показаться, что они выбраны произвольно. Но автор, глубоко знающий Священное Писание, ничего не делает случайно, он располагает символы в хронологической последовательности по источнику заимствования: Бытие – Исход – Числа – Третья книга Царств – Песнь Песней Соломона. Кроме того, все эти символы формально объединяются по общему признаку – числу «2», которое символизирует «парность», нераздельную слитность, единство (Петр и Павел изображаются обычно вместе). Следует отметить, что каждый из этих символов, с одной стороны, ярко и убедительно передает идею избранности и особой близости к Богу верховных апостолов, а с другой – доверительно показывает их покровительство и постоянную помощь людям. Рассмотрим подробнее способы работы автора с символическим образом.
Петр и Павел – два светила : Петр – солнце , Павел – луна . В Священном Писании символика солнца очень разнообразна. Основные символические значения слова солнце : 1) сам Господь как источник всякого света и благодати (Пс. 83 : 12); 2) слово Божье (Пс. 18 : 2–7); 3) Господь Иисус Христос, второе лицо Троицы, Логос, он есть солнце правды (Мал. 4 : 2), истинный свет (Иоан. 1 : 9), свет вечный, невечерний (Апок. 21 : 23; 22 : 5); 4) носители слова Божьего. Истинная церковь в Откровении Иоанна Богослова изображается женой, облеченной в солнце, и под ногами ее луна (Апок. 12 : 1). В Священном Писании с луной величественно сравнивается церковь, так как она заимствует свой блеск и сияние от Солнца правды – Христа. «Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светла, как солнце, грозна, как полки со знаменами?» – говорит таинственный жених о своей возлюбленной (Песн. 6 : 10).
И. Галятовский произвольно называет Петра и Павла солнцем и луной , хотя их традиционные символы – светильники (Апок. 11 : 4). Однако проповедник мотивирует новые символические значения иным контекстом, книгой Бытия, где рассказывается о сотворении Богом двух светил – солнца и луны (Быт. 1 : 6).
Далее автор поясняет, почему же именно Петр – солнце , а Павел – луна . Апостол Петр аТ ай аТ9 ТабёТ^ паТа^ паЕоёёй , ТбТ - ТТаЕааё 0а9$ёаw! й , ёТоТбиё пу аТа! и TaQuaa^ou. А почему они себя днем называют? Потому что аЕааёё ТбаааёаTаw Аа9 (Пс. 75 : 2). Апостол Павел а ТТ^е пааоёёй ТаоёТ^ паТа^ , ТбТТТааааё 0а9ТTааwПй , ёТоТбйё пу Тасиаа^о ТТ^о . А почему они себя ночью называют? Потому что Та сТаёё TбаааёаTwT Аа9 а аиёё ТТёбйой оаМТ-поу! ё ТааЕбпоаа . Смерть Петра и Павла автор сравнивает с затмением солнца и луны: пё9за сао!ёёТпу , и! бёй АТёй Таобй са 0а9Е ^абw^а ^ !ой сао!ёёпу , АТёй Та-ааёй и! абй са 0а9
Как видим, образ луны по отношению к апостолу Павлу является вторичным. Луна символизирует церковь, а с переменами фаз луны у Галятовского сравнивается человеческая жизнь, сам человек. Выбор этого символа можно объяснить, скорее, ассоциативно: после солнца второе, меньшее светило – это луна, и она рассеивает тьму. Тьма – символ язычества (устойчивые сочетания: тьма идолопоклонства, тьма невежества).
Петр и Павел – две скрижали. В Библии говорится, что на двух скрижалях, или на двух каменных досках, были написаны десять заповедей в знак того, что в них заключено два рода любви – к Богу и к ближнему (Исх. 32 : 15–16; 34 : 1). Верховные апостолы названы так потому, что у них на сердцах , как на скрижалях , написаны заповеди Божьи: !а^ой Та пббйбй паТёой ТаТёпаТТа аапуоабТ ТбёёасаТа А$9а .
Петр и Павел – два золотых херувима. Употребление символа мотивировано Библией, книгой Исход, где говорится о Ковчеге Завета и двух золотых херувимах на его крышке (Исх. 25 : 18–20). В Священном Писании слово херувимы встречается часто. Так называются умные силы, особо приближенные к Богу [Библейская энциклопедия, 1991. С. 748]. Господь представляется восседающим на херувимах (Апок. 4 : 6–9; 5 : 11, 14). Выбор этого слова как символа апостолов не случаен: в нем отражена, во-первых, идея близости к Богу ( ё ай пбосУ АаббТаТйбй АТёй Таоба ё Тааёа Аа9 w■dT - ^ёаааой ), во-вторых, идея заступничества за людей перед Богом: ТбабоаоаёпоаТ! й паТ-ё!й , уёТ ёбиёа! ё , ТТёбйаа^ой ёT$clаw ^ё9й ааб^Tаw ё ТTaT$^Tаw . И как херувимы на Ковчеге Завета обращены лицами друг к другу и смотрят на ковчег, так и Петр и Павел обращены лицами друг к другу (это отражено в иконографии) и смотрят на церковь, т. е. на христиан.
Петр и Павел – две серебряные трубы . Слово труба часто встречается в Библии, имеет разные символические значения. По отношению к апостолам символ две серебряные трубы объясняется по книге Числа (Числ. 10 : 1–10); признак, положенный в основу сопоставления, – призвание людей к добрым делам.
Петр и Павел – два медных столпа. Традиционно апостолов называют столпами (опорой) церкви, а Галятовский называет их двумя медными столпами , стоящими в притворе храма Соломона. Изображение этих прекрасных столпов дано в Третьей книге Царств (3 Цар. 7 : 15–22); правый столп назывался Иахин (евр. ‘он утвердил’), левый – Воаз (евр. ‘сила’) ЙйТёТО !ЕауТйё сИа-^аой поаоа^ЕТпой , аТ поои ТаТТббоаТйё ё ТаТТёТёЕаё! иё , ё Ааббwа^йё АТ9ё
Таоби ё Таааё аиёё поаоа^Тиё ё Та - ТТбб0аТ иё .
В конце проповеди, чтобы удивить слушателя, появляется новый оригинальный символ: Петр и Павел - два сосца , перси : «аТ w^ё 1 ёаёТ! и а6ТаТй!и , пёТаТ! и АжЙ1и , аб0ё ё^апё1а ГаТТуёё». Символическое значение перси автор определяет, ссылаясь на Песнь Песней Соломона, где описывается красота возлюбленной невесты (Песн. 4 : 5). Выбор символа объясняется и через Новый завет: «Я питал вас молоком, а не твердою пищей» (1 Кор. 3 : 1–2); «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Петр. 2 : 2).
А далее автор, прибегая к очень трогательной бытовой зарисовке, чтобы вызвать теплые чувства в душах слушателей, обращается к злободневной для того времени теме – защите православия. Он говорит, что, пока ягненок сосет молоко, Бог запретил забирать от него мать, потому что ягненок погибнет без пищи. А если кто нашел гнездо, в котором птица высиживает птенцов, тот не должен трогать его, иначе птенчики погибнут без корма.
Затем на основе символического ряда: мать – ‘церковь’, перси – ‘апостолы’, дети – ‘люди’, молоко – ‘вера’ проповедник создает яркую символико-метафорическую картину: « 1 и yёw аЕоё пТпа! Т 1 ёаёТ с Табп1ё 1 оёё паТ аё обё^ё по99ё. ВёТа жи пТ па! Т 1 ёаёТ ^ёТ аТ АжЙ , i абёб Оа® Q уёёби жа Табп1ё Q ипои АаббТаТйбй АТви Т аоба ё Т ааёа Т абёб Ас^ёб^ пТ па! Т ё а0В паТё ёТб!ё!Т _». Далее автор предостерегает, что ё^аа ТааЕбТйё , жёаи , аабаоёёё , ТТааТа , Тапи , аЕоаё Обёёё ТбааТпёааТТё , бТоуои и!Тбёоё ааси ТТёаб1б (т. е. пищи) аб^й^Таw , пёТаа АжBаw , аТ бТоуои t Тапи аЕоаё 1о9б Т0& ОбёТаи асуоё.
Таким образом, все названные символы свидетельствуют о христианском подвиге апостолов: они несли свет веры ( светила ), проповедовали Закон Божий ( скрижали ), были избранными учениками Христа и теплыми защитниками людей ( херувимы ), призывали к молитве и добродетелям ( трубы ), давали духовную пищу, «молоко духовное» ( перси ).
Рассмотрев способы работы автора со словом и текстом, мы пришли к следующим выводам.
-
1. Символ, являясь в проповеди по-прежнему основным изобразительным средством, утрачивает традиционную лаконичность изображения, теряется его возвышенность, идеальность, он ценен для автора именно как художественный образ.
-
2. И. Галятовский показывает, что символом может стать любое слово, имеющее образный компонент семантики и встречающееся в Священном Писании хотя бы один раз. Словно играя с многозначностью символа, автор открывает его новые значения; создает новые, непривычные символы, не имеющие традиции употребления (а это противоречит самой природе символа).
TRANSFORMATION OF THE SYMBOLIC IMAGE IN THE ARTISTIC SPACE OF THE TEXT (FOR EXAMPLE SERMONS OF IOANNIKY GALYATOVSKY
ON THE FEASTDAY OF THE HOLY APOSTLES PETER AND PAUL)
The process of secularization and the development of the Baroque style introduced a number of changes into the system of symbols of Old Church Slavonic. The reasons for these changes and their nature still need to be explored. The Sermons on the Feastday of the Holy Apostles Peter and Paul, included in the Key to Understanding , a collection of sermons by Ioanniky Galyatovsky (Kiev, 1659–1660), are analyzed from this perspective. One of the editions of the collection is kept in the Department of Rare Books and Manuscripts of the State Public Scientific and Technical Library (Novosibirsk). Despite the fact that Ioanniky Galyatovsky was one of the brightest and most talented southern Russian preachers of the seventeenth century, his literary heritage has yet remained understudied.
Список литературы Трансформация символического образа в художественном пространстве текста (на примере проповедей И. Галятовского на день памяти апостолов Петра и Павла)
- Библейская энциклопедия. Репринт. М.: ТЕРРА, 1991. 902 с.
- Бычков В. В. 2000 лет христианской культуры. Sub specie aesthetica: В 2 т. М.; СПб.: Университетская книга, 1999. Т. 1: Раннее христианство. Византия. 575 с.; Т. 2: Славянский мир. Древняя Русь. Россия. 527 с.
- Левшун Л. В. О слове преображенном и слове преображающем: теоретико-аналитический очерк истории восточнославянского книжного слова XI-XVII вв.: Моногр. Минск: Белорус. Православная Церковь, 2009. 896 с.
- Сумцов Н. Ф. К истории южнорусской литературы XVII в. Киев, 1884. Вып. 2.