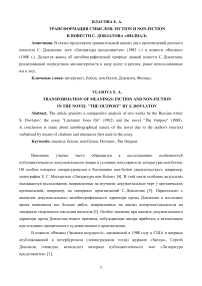Трансформация смыслов: fiction и non-fiction в повести С. Довлатова "Филиал"
Бесплатный доступ
В статье представлен сравнительный анализ двух произведений русского писателя С. Довлатова: эссе «Литература продолжается» (1982 г.) и повести «Филиал» (1988 г.). Делается вывод об автобиографической природе данной повести С. Довлатова, реализованной посредством автоинтертекста в виде цитат и реплик, ранее использованных им в эссе.
Довлатов, интертекст, филиал
Короткий адрес: https://sciup.org/147249782
IDR: 147249782 | УДК: 82.32
Текст научной статьи Трансформация смыслов: fiction и non-fiction в повести С. Довлатова "Филиал"
Внимание ученых часто обращается к исследованию особенностей публицистического документального жанра в условиях популярности литературы non-fiction. Об особом интересе литературоведов к бытованию non-fiction свидетельствует, например, монография Е. Г. Местергази «Литература non-fiction» [4]. В этой связи особенно актуальны оказываются исследования, направленные на изучение документальных черт у прозаических произведений, например, на материале произведений С. Довлатова [5]. Параллельно с анализом документального автобиографического характера прозы Довлатова в последнее время появляется все больше работ, направленных на анализ интертекстуальности на материале творческого наследия писателя [1]. Особое значение при анализе документального характера прозы Довлатова имеют причины, побуждающие автора прибегать к автоцитации при создании прозаического художественного произведения.
В повести «Филиал (Записки ведущего)», написанной в 1988 году в США и впервые опубликованной в петербургском (ленинградском тогда) журнале «Звезда», Сергей Довлатов, очевидно, использует материал публицистического эссе «Литература продолжается» [3].
В основе сюжета повести лежат реальные события, а именно – международная конференция «Литература в эмиграции. Третья волна» (1981 г., май), заметки о которой были подготовлены С. Довлатовым для «Нового американца» и опубликованы в «Синтаксисе» под названием «Литература продолжается»1. Т.е. события реальной конференции получили отражение в двух жанровых литературных формах – эссе (1982 год) и художественной повести (1988 год).
Связь между двумя текстами – эссе «Литература продолжается» и повестью «Филиал» поддерживается на уровне системы персонажей. В этой связи возникает вопрос: почему один и тот же персонаж обретает совершенно иные коннотации?
Можно предположить, что нейтрально выдержанный текст 1982 года, публицистический, информативный, «объективированный», гарантировал некоторую «защищенность» Довлатову-художнику от упреков со стороны коллег-литераторов (фактология выдержана в эссе, в повести – домысел и вымысел)2.Однако, на самом деле задача художника Довлатова, вероятно, состояла в другом. Возможное сопоставление весьма близких по материалу произведений (одно с доминирующими плюсами, другое с явными минусами) позволяло в совокупности создать (сформировать) действительно объективную картину, демонстрирующую диалектичность (двойственность) характера каждого героя (человека). (Авто)интертекст становился для Довлатова условием писательской достоверности и художнической честности, подлинной объективности, когда посредством различных повествовательных дискурсов приоткрывалась сложность и неоднозначность противоречивой человеческой природы3.
В повести происходит фактическое слияние двух самостоятельных главок эссе – «Дезертир Лимонов» и «Старик Коржавин нас заметил», Лимонов и Коржавин оказываются в непосредственной близости, почти в «дуэльной ситуации».
Эпизод с Лимоновым подвергается в повести «Филиал» кардинальной переработке, точнее нарратором использована (воспроизведена) совершенно иная ситуация. Если в эссе Довлатов делает акцент на высказывании Лимонова о том, что он «не хочет быть русским писателем» [2, c. 276] и «многоголосо» обсуждает реакцию участников симпозиума на это «дезертирское» заявление, то в повести в центре оказываются «филиппики» Коржавина –
«проклятия» Ковригиным Лимонова в продолжение отведенного ему регламента, а затем продолжение браниещена семь минут, щедро предоставленных ему самим Лимоновым.
Итак, «лимоновские» эпизоды в эссе и в повести соврешенно разные (прежде всего они утрачивают самостоятельность), и акцентированные в них моменты тоже различны, однако обращает на себя внимание то, что и там, и там Лимонов у Довлатова предстает неизменно «талантливым человеком» [2, с. 278], на счет которого рассказчик не иронизирует (вероятно, последнее и позволяет сохранить подлинную фамилию героя повести Лимонов, хотя фамилии других повестийных персонажей изменены).
Таким образом, интертекстуальные связки между довлатовскими эссе и повестью (и между современным текстом и классикой) вновь нацелены на создание правдивого образа, но в данном случае генерируют его по совершенно иной повествовательной (и аксиологической) схеме - образ Лимонова сохраняет в себе константные черты «бескрылого», «хамского», но талантливого «материалиста», каким он и видится Далматову-Довлатову. Столкновение Коржавина - Лимонова (Ковригина - Лимонова) разрешается в пользу последнего, как и в тургеневской паре героев «старший Кирсанов - Базаров». Неслучайна реплика рассказчика «Филиала» по окончании заседания: «Можно было отправиться и в ресторан с тем же Лимоновым...» [2, с. 233]. Неслучайна и цель поездки на симпозиум героя эссе - «Посмотреть на живого Лимонова» [2, с. 274]. Авторитетность личности и героя Лимонова остаются для Довлатова (Далматова) константно неизменными.
Название повести «Филиал» обретает сущностное наполнение не сразу, только по истечении ряда событийных обстоятельств становится ясно, что заглавие мотивируют отношения концептов «родина» и «эмиграция», Россия и США, метрополия и филиал («филиал будущей России», «наша миссия», «историческая роль» [2, с. 267]). Для героя-рассказчика нахождение вне пределов большой родины воспринимается малым филиалом, который, однако, живет по тем же законам и традициям, руководствуется теми же привычками и принципами, что и в пределах оставленного отечества.
Завершая эссе о международной конференции «Литература в эмиграции. Третья волна», Довлатов подводит итог и говорит о том, что «должна быть в литературе кошмарная, невероятная, фантасмагорическая путаница» [2, с.285], «священный беспорядок» [2, с. 284]. Сопоставление текстовых пространств эссе «Литература продолжается» и повести «Филиал» словно бы подтверждает эту мысль Довлатова. Несовпадение характеристик, «неуточненность» фактов, разница в составе участников симпозиума и проч. - так же, как и во многих других произведениях Довлатова, которые содержат в себе противоречивые сведения об одних и тех же событиях и лицах - становится знаком многоликости человеческой природы, неоднозначности человеческого характера, противоречивости 3
поведения персонажа (личности) в различных обстоятельствах, подтверждением максимы, сформулированной Довлатовым еще в «Зоне: «Человек <…> – tabula rasa».
При сопоставлении текстов эссе «Литература продолжается» и повести «Филиал» кажется очевидным, что публицистический дискурс эссе должен быть вытесненным образной символикой художественного текста повести: размышления эссеиста о норме и абсурде современной жизни у корреспондента-наблюдателя должны наполниться образной символикой универсального плана. Отчасти именно так и происходит, но, как известно по «Компромиссу», газетные репортажи Далматова далеко не всегда фактологичны и объективны, домысел и вымысел становятся основой творческой стратегии в том числе и публициста.
В повести градус художественного вымысла повышается, домысел коннатирует уже первый повестийный эпизод, когда герой «Филиала» оказывается в Лос-Анжелесе. Если в эссе рассказчик сообщает (вероятно) достоверный факт о том, что из аэропорта до гостиницы он доехал на такси вместе с Виктором Перельманом, то в повести появляется «вымышленный» эпизод – когда водителем такси героя Далматова оказывается бывший заключенный из Устьвымлага, т.е. места службы Алиханова, героя «Зоны». Одна повесть Довлатова увязывается с другой, поддерживая мысль «записок надзирателя» о схожести жизни по обе стороны запретки и о ее абсурдизме и хаосе.
Автоинтертекст в повести Довлатова привлекается и через трансполяцию одних и тех же цитат и реплик персонажей, ранее использованных прозаиком в эссе, но позднее оказавшихся в тексте художественной повести.
Своеобразие использования автоинтертекста в повести «Филиал» определяется во многом тем, что Довлатов размышляет о роли «русского литератора» [2, с. 225], фактически о традиционной проблеме русской классической литературы «писатель и творчество», «предназначение поэта и поэзии».
Как и в эссе «Литература продолжается», так и в повести «Филиал», главное, что все герои, участники симпозиума «Новая Россия» сходятся во мнении, что есть русская литература, которая продолжается, в том числе и в пределах американского «филиала». Интертекст повести (точнее – автоинтертекст) позволяет С. Довлатову шире и многообразнее представить эту проблему.
Список литературы Трансформация смыслов: fiction и non-fiction в повести С. Довлатова "Филиал"
- Доброзракова Г. А. Сергей Довлатов: диалог с классиками и современниками: монография. - Самара: ИУНЛ ПГУТИ, 2011. - 172 с.
- Довлатов С. Д. Филиал (Записки ведущего) // Собрание сочинений: в 4 т. - СПб.: Азбука, 1999. - Т. 4. - С. 200-287.
- Довлатов С. Д. Литература продолжается // Синтаксис. - 1982. - № 10. - С. 132-146.
- Местергази Е. Г. Литература нон-фикшн / non-fiction: экспериментальная энциклопедия: русская версия. - М.: Совпадение, 2007. - 325 с. EDN: QUDTID
- Поливанов А. С. «Псевдодокументализм» в русской неподцензурной прозе 1970-1980-х годов: Вен. В. Ерофеев, С. Д. Довлатов, Э. В. Лимонов: дисс. … канд. филол. наук. - М., 2010. - 202 с. EDN: QEZFRR