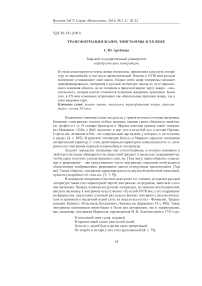Трансформация жанра эпиграммы в ХХ веке
Автор: Артмова Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются черты жанра эпиграммы, пришедшие в русскую литературу из европейской, в том числе древнегреческой. Именно в XVIII веке русская эпиграмма устанавливает свой канон. Однако затем жанр эпиграммы начинает трансформироваться, эпиграмма в русской литературе пошла по пути иронического осмеяния объекта, но не потеряла и факультативную черту жанра – описательность, которая иногда становится основным жанровым признаком. Более того, в ХХ веке изменения затрагивают как обязательные признаки жанра, так и само жанровое ядро.
Жанры лирики, эпиграмма, трансформация жанра, адресат, диалог, поэзия хх века
Короткий адрес: https://sciup.org/146121887
IDR: 146121887 | УДК: 82-193.2(091)
Текст научной статьи Трансформация жанра эпиграммы в ХХ веке
Изначально значение слова эпиграмма у греков не имело оттенка насмешки. Название «эпиграмма» носили любые надписи, какими греки объясняли памятники, трофеи и т. п. В словаре Брокгауза и Эфрона находим пример такой эпиграммы Мназаика: «Тебе, о Феб, приносит в дар этот изогнутый лук и колчан Промах. Стрелы же, летавшие в бой – его смертельный дар мужам, у которых, о, не остались в груди» [4, с. 892]. В римской литературе Катулл и Марциал придали эпиграмме сатирический характер. С этим двойственным характером (описательность vs . сати-ричность) эпиграмма перешла в европейскую литературу.
Лессинг определял эпиграмму как «стихотворение, в котором внимание и любопытство наше обращаются на известный предмет и несколько задерживаются, чтобы сразу получить удовлетворение» (цит. по: [Там же]); таким образом, «ожидание и разрешение – две существенные части эпиграммы; ожидание возбуждается объективным изображением, разрешение дается остроумным заключением» [Там же]. Таким образом, эпиграмма характеризуется остроумной необычной концовкой, пуантом (подробнее об этом см.: [5; 7; 9]).
В немецкой эпиграмме отчетливо выступает тот элемент, который в русской литературе также стал характерной чертой эпиграммы: остроумная, чаще всего личная насмешка. Правда, изначально русская литература, по мнению исследователей, вводила насмешку в эпиграмму искусственно: «Русский XVIII век, с его подражанием французам, представил длинный ряд искусственных эпиграмм с весьма натянутым остроумием и неудачной игрой слов; их писали все поэты – Фонвизин, Тредиа-ковский, Капнист, Аблесимов, Богданович, Ломоносов, Державин» [4, с. 892]. Такие эпиграммы напоминали мини-басни и были как авторскими, так и переводными, как, например, эпиграмма Марциала, переведенная М. В. Ломоносовым в 1747 году:
В тополевой тени гуляя, муравей
В прилипчивой смоле увяз ногой своей.
Хотя он у людей был в жизнь свою презренный,
По смерти в янтаре у них стал драгоценный [8, с. 79].
Однако затем эпиграмма прижилась в русской литературе и обрела свое жанровое своеобразие: «Живой и сильной явилась бойкая эпиграмма Пушкина; были удачные эпиграммы и у Лермонтова. Позже были известны, как эпиграмматисты, Соболевский, Алмазов, Минаев» [4, с. 892].
Именно сатиричность, насмешка, а не описательность становится в русской литературе чертой жанра эпиграммы: «В современном понимании эпиграмма представляет короткое сатирическое стихотворение (от двух до восьми стихов, редко больше), направленное против какого-нибудь лица или общественного явления» [10, с. 5–6]. Примером можно считать эпиграмму Сумарокова 1759 года:
Танцовщик! Ты богат. Профессор! Ты убог.
Конечно, голова в почтеньи меньше ног [20, с. 256].
По предположению П. Н. Беркова, «речь идет о Тимофее Бубликове, одном из первых русских балетных актеров. Богатые зрители, восхищаясь мастерством танцовщика, бросали на сцену кошельки, наполненные золотыми монетами. Под профессором, по-видимому, подразумевался умерший к тому времени С. П. Крашенинников (1713–1755), в судьбе детей которого принимал участие Сумароков» [2, с. 552]. Однако и без конкретно-исторических деталей эпиграмма имеет ярко выраженный иронический подтекст: ноги ценятся выше головы. «Новая русская литература заговорила с читателем языком сатиры» [17, с. 5].
Конечно, огромный вклад в развитие жанра эпиграммы внес А. С. Пушкин, эпиграммы которого стали образцом иронического описания объекта, как, например, хрестоматийная эпиграмма на графа Воронцова:
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда, Что будет полным наконец [15, с. 308].
Однако у Пушкина появляются и тексты, в которых есть след былой описа-тельности. На стыке «надписи» и «сатиры» стоит эпиграмма на 1818 года В. А. Жуковского: «Послушай, дедушка, мне каждый раз, / Когда взгляну на этот замок Рет-лер, / Приходит в мысль: что, если это проза, / Да и дурная?..» [Там же, с. 197]. Это одновременно и надпись на книге, и ирония по поводу ее автора. Еще более близка к «надписи» эпиграмма на Кюхельбекера: «Вот Виля – он любовью дышит, / Он песни пишет зло, / Как Геркулес, сатиры пишет, / Влюблен, как Буало» [Там же, с. 176].
Исследователи эпиграмм XVIII–XIX вв. отмечают в основном иронические вариации эпиграммы: «Русская эпиграмма, начиная с самого начала ее формирования в XVIII веке, служит для осмеяния общественных или личных пороков, недостатков. Но осмеяние является целевым назначением басни, анекдота, сатирико-юмористической частушки. <…> Эпиграмма же в отличие от басни и анекдота по своей оценочной экспрессии всегда однопланова, характеризуется ярко выраженной односубъектной модальностью» [18, с. 5].
Односубъектная модальность сближает эпиграмму с посланием, акцентируя внимание на адресности осмеяния, как, например, в стихотворении Н. А. Некрасова на Л. Н. Толстого 1876 года с посвящением «Автору Анны Карениной»: «Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом, / Что женщине не следует “гулять” / Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, / Когда она жена и мать» (цит. по: [19]).
Эпиграмма конца XIX – начала ХХ века строится по тому же принципу, что и классические образцы. Однако односубъектность становится факультативным признаком, он может присутствовать, как, например, в эпиграмме Куприна на Бунина 1912 года с посвящением «И. А. Бунину»: «Оставь, поэт, наивен твой обман, / К чему тебе прикидываться Фетом? / Известно всем, что просто ты Иван, / А, кстати, и дурак при этом!» [Там же].
А может и отсутствовать, как в эпиграммах К. Пруткова, например, в «Эпиграмме № I»: «“Вы любите ли сыр”, – спросили раз ханжу. / “Люблю, – он отвечал, – я вкус в нем нахожу”» [14, с. 23].
Двойственность эпиграммы (высмеивание порока вообще и порока конкретного человека в частности) позволяет жанру выстраивать обобщение.
Многие исследователи говорят об измельчании жанра эпиграммы в начале ХХ века, особенно эпиграммы сатирической, связывая это с цензурой советской власти [6; 12]. Однако эпиграмма не отмирает как жанр, а трансформируется, допускает новые жанровые вариации. ««Эпиграмма-хохотунья» хотя и утрачивает свои позиции в ХХI веке, но по-прежнему занимает свое почетное место среди многочисленных и разнообразных жанров русской поэзии» [19]. В середине ХХ века С. Я. Маршак создает вариации жанра, которые называет «лирические эпиграммы», например: «Мы принимаем всё, что получаем, / За медную монету, а потом – / Порою поздно – пробу различаем / На ободке чеканно-золотом» [11, с. 32]. Здесь нет иронии по отношению к объекту, а есть самоирония, в целом эта сентенция мало напоминает эпиграмму в привычном нам виде, однако с точки зрения древнегреческих корней она вполне традиционна, представляет собой объяснение, надпись иногда на абстрактном «листе», а иногда на вполне конкретном: «Немало книжек выпущено мной, / Но все они умчались, точно птицы. / И я остался автором одной / Последней, недописанной страницы» [Там же, с. 36].
Неслучайно именно в ХХ веке появляются хрестоматии, где собраны эпиграммы своего времени [1; 10; 16; 17]. В конце ХХ века эпиграмма выступает, казалось бы, в неизмененном виде, предполагая все то же высмеивание конкретного лица (подробнее об этом см.: [21]), как, например, в эпиграмме А. Иванова 1990 года: «Переосмысливая заново / Картины Элика Рязанова, / Скажу: талант его растет, / Как и живот. Им нет предела, / Но вырывается вперед / Его талантливое тело» [13, с. 40]. Или в 1999 году, после появления нового гимна Михалкова, с посвящением «Михалковым»: «– Россия! Чуешь этот страшный зуд? / Три Михалковых по тебе ползут» [3].
Эта черта эпиграмм Гафта уже была подмечена ранее: «Гафт, как утверждают злые языки, из московских языков – самый злой. Однако и здесь не без исключений: когда Гафт пишет о друзьях, язык его часто ехидность свою теряет» [13, с. 7]. Однако дело не в личности автора эпиграмм и не в его отношениях с объектами описания, а в том, что в сознании автора (и читателей) эпиграмма как жанр в конце ХХ века может позволить себе быть «неехидной», не высмеивать объект насмешки. Неслучайно, наверное, в книге «Незнакомые знакомцы» эпиграммы публикуются вместе с дружескими шаржами, которые как бы восполняют недостаток иронии в вербальном тексте. Поэтому наряду с ироничными текстами становятся многочисленными эпиграммы, в которых осмеяния лица нет, а есть его возвеличение, своего рода «подпись» современника, убеждающая в величии описываемого объекта.
Современная эпиграмма наследует все традиции сразу, сочетая в себе черты и сатиры, и надписи. Выстраивается новая вариация эпиграммы: объект по-прежнему конкретен, но вместо иронического осмеяния дается двойная оценка, сочетаю- щая и иронию, и возвеличение, как, скажем, в эпиграмме А. Архангельского Борису Пастернаку: «Все изменяется под нашим зодиаком, / Но Пастернак остался Пастернаком» [1, с. 202]. Здесь возможно двойное прочтение: «все преходяще, а Пастернак вечен» (как сейчас чаще всего и интерпретируется этот текст), или «все движется вперед, кроме Пастернака» (в советскую эпоху он считался «эскапистом», уходящим от проблем). Или в эпиграмме А. Иванова: «Чайка смело пролетела / И на грудь Олега села. / Опасается народ: / Ох, Ефремов, заклюет!..» [13, с. 50]
Более того, иногда эпиграмма становится своего рода «маленькой одой», лишенной иронии по отношению к субъекту. В этом случае эпиграмма предполагает игру с жанровым ядром, нарушая жанровые ожидания читателя, как в эпиграмме В. Гафта с посвящением «Высоцкому»: «Ты так велик, ты так правдив, / Какие мне найти слова, / Мечте своей не изменив, / Твоя склонилась голова. / Не может быть двух разных мнений / Ты просто наш советский гений» [3]. Или эпиграмма В. Гафта на Людмилу Гурченко, в которой насмешки нет как таковой: «Вам не случалось удивиться: / Она актриса иль певица? / Да нет! Она – и то, и это, / Не женщина – мечта поэта!» [13, с. 13]. Таких текстов становится довольно много, строятся они, как правило, на каламбуре, игре слов, апеллируют к вполне угадываемому (а зачастую и прямо названному по имени и фамилии) адресату.
Таким образом, эпиграмма в русской литературе пошла по пути иронического осмеяния объекта, однако не потеряла и факультативную черту жанра – описа-тельность, которая иногда становится основным жанровым признаком. Более того, изменению подвергается и само жанровое ядро, что позволило в ХХ веке создавать разнообразные жанровые вариации.
Список литературы Трансформация жанра эпиграммы в ХХ веке
- Архангельский А. На Бориса Пастернака//Эпиграмма. Антология сатиры и юмора России ХХ века. Том 41. М.: Эксмо, 2005. 384 с.
- Берков П. Н. Комментарии//Сумароков А. П. Избранные произведения. Л.: Сов. писатель, 1957. С. 513-577.
- Гафт В. Эпиграммы /В. Гафт. URL: http://e-libra.ru/read/136887-yepigrammy.html. (Дата обращения: 20.07.2016.)
- Горнфельд А. Г. Эпиграмма//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. Т. XLa. СПб., 1904. С. 892.
- Ершов Л. Ф. Сатирические жанры русской советской литературы: от эпиграммы до романа. Л.: Наука, 1977. 282 с.
- Кушлина О. Б. Жанровое своеобразие русской сатирической поэзии начала XX века (пародия, эпиграмма, басня): дис. … канд. филол. наук: 10.01.01/О. Б. Кушлина; Ин-т мировой литературы. М., 1983. 199 с.
- Леонов И. С. Поэтика русской эпиграммы XVIII -начала XIX века: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01/И. С. Леонов; Московский пед. гос. ун-т. М., 2006. 16 с.
- Ломоносов М. В. Эпиграмма (перевод из Марциала)//Мастера русского стихотворного перевода: в 2 т. Т. 1. Л.: Сов. писатель, 1968. 512 с.
- Мальчукова, Т. Г. В свете традиций: о сравнительно-типологическом изучении лирических жанров: учеб. пособ. Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1986. 91 с.
- Мануйлов В. Предисловие//Русская эпиграмма (XVIII-XIX вв.). Л.: Сов. писатель, 1958. С. 5-28.
- Маршак С. Эпиграммы М.: Художник РСФСР, 1978. 104 с.
- Матяш С. А. Вопросы поэтики русской эпиграммы: учеб. пособие. Караганда: Изд-во КарГУ, 1991. 113 с.
- Незнакомые знакомцы: Эпиграммы и дружеские шаржи. Рисунки К. Куксо. Эпиграммы А. Иванова и В. Гафта/А. Иванов, В. Гафт, К. Куксо. М.: Огонек: Вариант, 1990. 93 с.
- Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова. М.: Худож. лит., 1987. 335 с.
- Пушкин А. С. Сочинения: в 3 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1985. 735 с.
- Русская эпиграмма/сост. В. Васильева. М.: Худож. лит., 2000. 367 с.
- Русская эпиграмма второй половины XVII -начала ХХ в./сост. В. Е. Васильев, М. И. Гиллельсон, Н. Г. Захаренко. Л.: Сов. писатель, 1975. 968 с.
- Рыбакова А. А. Экспрессивно-семантическая структура русской эпиграммы XVIII-XIX веков и ее лексические, фразеологические средства: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01/А. А. Рыбакова; Армавирский гос. пед. ун-т. Армавир, 2009. 195 с.
- Степанов Е. Эпиграмма как поэзия //Дети Ра. 2011. № 1(75). URL: http://magazines.russ.ru/ra/2011/1/st24.html. (Дата обращения: 20.07.2016.)
- Сумароков А. П. Избранные произведения. Л.: Сов. писатель, 1957. 607 с.
- Темкин Г. И. Современная эпиграмма М.: Ассоциация «Книга. Просвещение. Милосердие», 2000. 175 с.