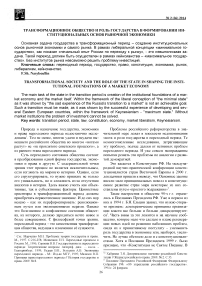Трансформационное общество и роль государства в формировании институциональных основ рыночной экономики
Автор: Насыбуллин Ф.Ш.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (36), 2014 года.
Бесплатный доступ
Основная задача государства в трансформационный период - создание институциональных основ рыночной экономики и самого рынка. В рамках либеральной концепции «минимальное государство», как показал «печальный опыт России по переходу к рынку», - это невыполнимая задача. Такой переход должен быть осуществлен в рамках кейнсианства - «максимальное государство». Без институтов рынка невозможно решить проблему инвестиций.
Переходный период, государство, право, конституция, экономика, рынок, либерализм, кейнсианство
Короткий адрес: https://sciup.org/142233661
IDR: 142233661
Текст научной статьи Трансформационное общество и роль государства в формировании институциональных основ рыночной экономики
Природа и назначение государства, экономики и права переходного периода недостаточно иссле-дованы1. Тем не менее, многие удачи и неудачи нынешнего российского общества во многом «ногами растут» не «из проклятого советского прошлого», а из раннего этапа переходного периода.
Суть переходного состояния общества состоит в преобразовании одной формы государства, экономики и права в другую. С содержательной точки зрения этот процесс не является исключительным, если взглянуть на мировую историю. Однако, если его структурировать, то нужно признать не только его уникальность, но и сложность из-за отсутствия аналогов в истории. Здесь важно учесть как объективные, так и субъективные факторы. Ценностные ориентиры в трансформационный период должны приобретать первостепенное значение. И до сих пор неясно - как их переформатировать: революционным путем или эволюционными мерами. Однако это болезненное и конфликтное состояние общества, из которого, должно зародиться нечто новое и более совершенное. С философской точки зрения, переходный период - это качественная трансформация общества, ведущая к изменению её сущности.
' См.: Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. М., 1997. С.216-258; Мошелков Е.Н. Переходные процессы в России. М., 1996; Сорокин В.В. Государственность переходного периода: Теоретические вопросы: Автореф. дисс.... к.ю.н. -Екатеринбург, 1999; Радаев В.В., Бузгалин А.В. Экономика переходного периода. - М.: Пзд-во МГУ, 1995; Малахов В.П. Признаки права переходного периода // История государства и права. 2009. № 8.
Проблемы российского реформаторства в значительной мере лежат в плоскости недопонимания места и роли государства в переходный период. Те немногочисленные исследования, затрагивающие эту проблему, подчас далеки от истинных проблем переходного периода. И уже совсем неоправданны попытки решать эти проблемы по аналогии с развитой демократией.
Это касается и Конституции РФ. На международной научно-практической конференции конституционалистов стран Восточной Европы в 2000 г. докладчики пришли к выводу, что Основные законы внесли мало принципиальных новелл в конституционное развитие стран мира некоторые из них составлены путем «простого подражания»2.
Такие настроения в обществе 90-х г.г. отразились в Посланиях Президента РФ. Уже в первом из них в 1994 г. Б.Н. Ельцин заявил, что нужно открыто признать: демократические принципы организации власти все больше и больше дискредитируют-ся3. Часть вины за это ложится и на научное сообщество, которое мало что сделало в плане регенерации новых идей по решению наболевших проблем, сведя их к примитивному постулату - уменьшить роль государства в экономике или, наоборот, увеличить. Не лучше обстояло дело и с конституционалистами. Хотя в Послании Президента 1999 г. было признано, что «Конституция не Святое Писание. В
" Хабриева Т.Я. Доктринальное значение российской Конституции // Журнал российского права. 2009. № 2. С.35.
-
3 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ. «Об укреплении российского государства». 1994 г. 24 февраля.
нее можно и нужно вносить изменения», все внесенные в правительственную комиссию предложения по изменению Конституции носили «не столько
„ „4 правовой, сколько политическии характер» .
На самом деле проблема состояла не столько в курсе, сколько в тактике проведения реформ. Власть на старте не смогла правильно определить оптимальную траекторию реформ.
Поэтому, несмотря на огромную работу юристов по правовому обеспечению реформ, в кризисном состоянии оказалось не только конституционное законодательство, но и отдельные отрасли и институты права, которые создавались под рынок, который, в свою очередь, так и не сложился. Поэтому неудивительно, когда сами же ученые-юристы, подводя итоги практических результатов своей работы, сделали неутешительные выводы: «К 2005 г. стало очевидно, что заложенная в ГК РФ система корпоративного законодательства пришла к состоянию банкротства»5.
Это вполне объяснимо, ибо в условиях, когда в экономике господствуют монополии, отсутствует конкуренция и равенство субъектов хозяйственной деятельности, не говоря уже о деформациях в политической сфере, никакие законы, даже самые идеальные, не решат проблем общества.
Точнее они могут решить их, но при наличии верной тактики и политической воли, заинтересованной в оздоровлении ситуации, а не в правовом оформлении абсурда.
Добавим, что названные выше пороки проявились довольно рано и первым их признал Б.Н. Ельцин, который в своем Послании 1997 г. буквально заявил, что свободная купля-продажа распространилась на принятие законов, действия чиновников, решения судов.
Это не только безнравственно, но и смертельно опасно для общества и государства6.
Тогда каково же место и роль государства в транзитный период?
В юридической литературе, относящейся к теме соотношения государства и экономики, выделяют три типа социально-экономических систем: 1 ) этатическая система; 2 ) либеральная система; 3) социальные системы со смешанной экономикой'.
-
4 Послание Президента Федеральному Собранию РФ. «Россия на рубеже эпох». 1999 г. 30 марта.
-
5 Гутников О.В. Состояние и перспективы развития корпоративного законодательства в Российской Федерации // Журнал российского права. 2007. № 2. С.36.
0 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ. «Порядок во власти - порядок в стране». 1997. 6 марта.
-
7 Право и общество: от конфликта к консенсусу. Монография / Под общ.ред. В.П. Сальникова и Р.А. Ромашова. СПб., 2004. С.422.
Первую систему характеризует то, что государство представляет собой аппарат публичной политической власти, определяющей основные направления политики8. Либеральная система, по мысли этих авторов, состоит в требованиях невмешательства в экономику, свободы частной собственности и её защиты от каких-либо посягательств.
Говоря о смешанных системах, авторы данной монографии отмечают, что на сегодняшний день ни одна страна в мире не располагает экономикой в классическом рыночном варианте. В реальности в разных странах формируются различные модели смешанной экономики, отличающейся друг от друга степенью смешения рынка и государственного ре-гулирования9. В связи с этим Россия может быть отнесена только к смешанной системе, проистекающей из комбинации первой и второй моделей, различающихся в каждой конкретно стране степенью вовлеченности государства в экономический процесс. Авторы трехзвенной модели социальноэкономической системы не учитывают как минимум три момента. Во-первых, следует ли в научном анализе прибегать к эффектным терминам типа «этатизм» и т.д., если всё, по их мысли, легко структурируется с базовым признаком регулируемости рынка, а не свободы, являющейся на самом деле ключевым моментом к характеристике любой государственности? Во-вторых, смешанная экономика, вопреки данной точке зрения, к сожалению, получившая поддержку не только среди части ученых-юристов, но и экономистов, политиков - это не сочетание двух несочетаемых начал - регулирования и саморегулирования, а сочетание в одной системе двух форм собственности - частной и государственной. В Большом энциклопедическом экономикоюридическом словаре смешанная экономика трактуется как наличие различных форм собственною сти .
В-третьих, слабой стороной предложенной конструкции является и то, что она не позволяет провести различие между воздействием на экономические процессы и регулированием, но не самого рынка, а его внешних проявлений («провалы рынка»), между правовым вмешательством в экономику и пределами правового регулирования и т.д.
Другой подход, созвучный первому, отражен в аналогичной конструкции, но раскрывающий роль государства в жизни общества в «либерально- юри-
8 Там же. С.422.
9 Там же. С.431-432.
-
10 Федоров Н.В., Кураков Л.П., Кураков В.Л. Большой энциклопедический экономико-юридический словарь. Казань, 2006. С.1262.
(№u.
дической интерпретации» через понятие и механизмы функционирования гражданского общества” .
Основной недостаток это подхода, на наш взгляд, состоит, во-первых, в гипертрофированном представлении роли гражданского общества; во-вторых, в явном противопоставлении гражданского общества власти и экономике; в-третьих, в несостоятельности постулата, что якобы демократический государственный интервенционализм, выражающий интересы большинства групп, означает конец свободного рынка, переход к государственному регулированию рынка12.
Вряд ли уместно утверждать, что гражданское общество, функционирующее как саморегулируе-мая социальная система, детерминирует государство, более того, оно само формирует для себя управляющую систему - аппарат государственной вла-сти13. Это упрощенная интерпретация идей французских энциклопедистов XIX в. Мысль авторов, начавшись на мажорной ноте воспевания таких признанных демократических ценностей, как свобода, конкуренция, всеобщее равенство и самоорганизация общества, все более скатывается к минору, состоящему в оправдывании западноевропейского этатизма, заканчиваясь «похоронами» свободного рынка. В этой ситуации весьма интересно проанализировать аргументацию авторов в динамике, которая, на наш взгляд, явно противоречива. По их мнению, есть три основных механизма саморегулирования гражданского общества, в которых проявляется принцип формального равенства: свободный рынок (экономический механизм); либеральная демократия (политический механизм) и правовой способ разрешения конфликтов (судебно-правовой механизм). Подытоживая свою мысль, авторы заключают, что: «сочетание названных категорий дает следующие основные модели (гражданского) общества и государства. В рамках демократии возможны либерально-демократическое государство и так называемое социальное правовое государство с его демократическим этатизмом. Демократическим моделям противостоит авторитарный этатизм - авторитарное государство»14. При этом «в западноевропейских странах общий вектор политики государства изменился по направлению к этатизму»15.
Предложенная автором схема, не отрицая её положительного потенциала, не только не учитывает всего многообразия политических и экономических нюансов, но и порой прямо им противоречит. Достаточно сказать, что западноевропейские страны
-
11 Право и общество: от конфликта к консенсусу / Под общей редакцией Сальникова В.П., Романова Р.А. Спб., 2004. С.50-75. 12 Там же. С.64.
-
13 Право и общество: от конфликта к консенсусу. Монография / Под общ.ред. В. Сальникова и Р.А. Ромашова. СПб., 2004. С.65. 14 Там же. С.72.
15 Там же. С.74-75.
в послевоенный период до 80-х г.г. прошлого столетия, вопреки вышеприведенному утверждению прочно стояли на позициях «максимального» государства. Лишь затем, воспользовавшись наработками кейнсианства, развернули вектор своей политики от этатизма к свободному, не регулируемому рынку и минимальному государству, что четко обозначилось в политике, получившей название «рейганомика», «тетчеризм», которые и по сей день актуальны. При этом особо отметим, что все эти трансформации никак не повлияли на социальный характер европейских государств. Они сохранились и в новых условиях. Поэтому социальное государство - это не проявление мифического этатизма, а всего лишь политика государства по нивелированию несовершенства рынка. Если же говорить о концепции невмешательства государства в дела гражданского общества, то проблема здесь кроется не в степени государственного участия в их делах, а в развитости рынка, т.к. только свободный рынок и есть форма существования и высшая фаза развития гражданского общества. Оно свободно, если свободен рынок, и оно зависимо - если рынок регулируем, т.е. если нет рынка, то нет и гражданского общества. По мере развития демократических институтов совершенствуется и гражданское общество, которое, причудливо переплетаясь с государством и рынком, образует единую оболочку развитого демократического общества. Другой, наиболее практичный подход к определению места и роли государства в переходный период демонстрирует М.Н. Марченко. Анализируя политический фактор, он выделяет четыре формы: тоталитарное государство, эгоистически групповое, либеральное и социал-демократическое16. Рассматривая их, автор заключает, что задачи, решаемые государством в переходный период, «... намного сложнее и разнообразнее... они не вмещаются ни в рамки либерализма, ни в сложившиеся постулаты социал-демократизма, ни в каноны любой иной, даже самой идеальной «переходной» модели».
И далее «они определяются только в каждом отдельном случае, применительно к каждому конкретному обществу, экономическому и технологическому уровню его развития»17. Тем не менее, российской властью в качестве основной доктрины был выбран именно либерализм в его крайне ультрали-беральной форме. Конкретным выражением этой политики стал Вашингтонский Консенсус, навязанный посредством МВФ постсоветским государствам, заключавшийся в самоустранении государства или его «минимизации» в экономических и политических процессах.
-
10 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. М., 1996. С.237. ‘
-
17 Марченко М.Н. Указ.соч. С.234,241.
Требования Вашингтонского Консенсуса молодые реформаторы приняли за сам рынок и исполнили в крайне вульгарной форме, породив такие проблемы и так исказив рыночные отношения в России, что они по сей день не дают стране выйти не только на устойчивые темпы роста, но и на элементарное здоровое развитие. Этот негатив стал следствием неверного определения места и роли государства в трансформационных процессах, навеянного идеями либерализма, которые отводят государству скромную роль «ночного сторожа», идеально подходящую для развитых стран и противопоказанную переходным экономикам. В России в виде официальной доктрины утвердился постулат: «Чем меньше государства, тем лучше».
В экономической литературе совершенно справедливо отмечалось, что «в 1991 - 2000 г.г. в России не было своей государственной политики, не было четкой программы переходной экономики, была имитация, осуществлялся развал экономики, вывоз капитала, централизация рентных доходов в руках узкой группы лиц»18. Все это отбросило Россию на десятки лет назад. В последующие годы мало что изменилось, несмотря на нефтяной золотовалютный дождь, пролившийся на нашу экономику. Более того, до сих пор роль государства сводится к обязанностям «ночного сторожа», призванного охранять и защищать сложившиеся отношения. А положение дел удручающее: сырьевая ориентация, монополизм коррупция и т.д19. Все надежды на улучшение дел ответственные чиновники по-прежнему возлагают на мифические инвестиции, не понимая, что без создания самого рынка страна может рассчитывать лишь на спекулятивные инвестиции. Поэтому проблема определения места и роли государства в экономической сфере не просто актуализируется, но и становится жизненно необходимой для страны.
Анализируя основные и периферийные направления государственной политики в переходный период как системы, следует признать ее ядром и конечной целью установление рыночных отношений в экономике России на основе приоритета частной собственности. Многообразие форм собственности, установленное Конституцией РФ 1993 г., на наш взгляд, является следствием недопонимания составителями Основного закона сути проблемы.
Следует признать, что только на этой здоровой идейной базе, с которой собственно и началась демократическая революция в стране, одновременно могут эффективно осуществляться широкие демократические преобразования, перестраиваться госу-
-
18 Государство и экономика: Факторы роста. М., 2003. С.10.
-
19 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ. 2009 г. 12 ноября.
дарственный аппарат, формироваться правовая база свободной рыночной экономики, происходить ресоциализация граждан в плане позитивного восприятия новых ценностей и встраивание России в мировую экономику на основе рыночных парадигм, понятных международному сообществу.
Провозглашенные цели достигаются не автоматически, не путем самоформирования, а посредством системной и скоординированной работы по преобразованию государственной собственности в частную, плановой экономики в рыночную, тоталитарного государства - в демократическое, коллективистского менталитета - в индивидуальный, утверждению в сознании граждан их прав и свобод, равенства, идей прагматизма, благотворительности и социальной защиты малоимущих и нуждающихся в помощи. В основе этой политики должен лежать симбиоз идей правового и левого либерализма, включающих в себя как идеи монетаризма, так и неокейнсианства, творчески применимых к условиям переходного периода. Суть подобного подхода может основываться на опыте Китая, где главным принципом перехода к рынку выступала «постепенность их развертывания, поэтапность преобразований по сравнению с радикальными преобразованиями в России, что позволяло своевременно вносить необходимые коррективы в преобразовательный процесс»2". Аналогично, т.е. поэтапно, проходили преобразования, в частности приватизация, в странах Восточной Европы. Речь здесь идет о месте и роли государства переходного периода. Оно из пассивного субъекта, коим его представляют псевдолибералы, превращается в активного субъекта, наделенного обязанностью обеспечить институциональные условия для функционирования рынка. Справедливости ради отметим, что и автор Вашингтонского Консенсуса Д. Уильямсон первоначально упустил из программы строительство институтов. Тема институтов у него появилась только в середине 1990-х г.г. Правда, трактовка вопроса была еще весьма архаичной.
Под институтами понимались ведомства, а «перечень институтов, которые необходимо выращивать», сводился к независимому центральному банку. Несколько лет спустя Уильямсон осознал роль государства в создании и поддержании институтов рыночной экономики21. К сожалению, наши же младореформаторы это пробел в первоначальной концепции Д. Уильмсона не заметили, а заложниками их некомпетентности стала вся страна. Прибывая в состоянии демократического идеализма,
-
20 Аблаев И. Участие государства в экономике. - М.: Наука, 2004. С.135.
-
21 Подр. см.: Ананьин О., Хаиткулов Р., Шестаков Д. Вашингтонский консенсус: Пейзаж после битв // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 12. С.23.

авторы Конституции исходили из ложного представления, что в стране путем простого закрепления основных идей свободного общества, чуть ли не на следующий день воцарится полная демократия и заработает рынок. Так, ст .8 Конституции РФ декларирует: «В Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности». Кем гарантируется? Выбор невелик: либо государством, либо рынком. Но как может гарантировать тот, кого в природе пока нет? Более четкую позицию заняли в Грузии. Поэтому они прямо записали: «Государство обязано содействовать развитию свободного предпринимательства и конкуренции»22.
В Основном законе РФ также отсутствует принципиальное положение, что экономические отношения в Российской Федерации строятся на рыночных отношениях с приоритетом частной собственности. Вся западная цивилизация впитала императив Великой Французской Декларации прав человека и гражданина, что частная собственность есть «...право неприкосновенное и священное». В Российской же Конституции ее авторы, дезориентировав научное сообщество и законодателя, поставили частную собственность в один ряд с «государственной, муниципальной и иной формой собственности», гарантировав их равенство.
Поэтому неудивительно, что в юридической литературе стали появляться экстравагантные выводы. Один из авторов предложил: «... законодательное закрепление государственной собственности, как гаранта социальных прав граждан, и в экономике ей должна быть возвращена ведущая роль»23. В замешательстве оказались и некоторые специалисты конституционного законодательства. Одни увидели в этой формуле «начало обоснования доктрины многообразия форм собственности, что позволяет расширить границы конституционного регулирования видов собственно-сти»24, а другие, выдавая желаемое за действительность, делают совершенно противоположный вывод: «В Конституции РФ закрепляется приоритетность института частной собственности»25.
В контексте вышесказанного отметим, что если второй вариант, озвученный В.Д. Мазаевым, исходит из предугадывания истинных намерений составителей текста Конституции, но не выраженных четко в тексте самого закона, то первая позиция Т.Я. Хабриевой, по меньшей мере, спорна хотя бы
22 Конституция Грузии. Тбилиси.1995. Ст.ЗО. П.2.
-
23 Валеев P.M. Социальные права и их реализация в современной России. Казань, 2007. С.85.
-
24 Хабриева Т.Я. Доктринальное значение российской Конституции // Журнал российского права. 2009. № 2. С.38.
-
25 Мазаев В.Д. Конституционная модель российской экономической системы: образ и реальное наполнение // Журнал российского права. 2008. № 12. С.53.
потому, что она противоречит основным постулатам либерализма, закрепленным в Конституции РФ. Что касается первого варианта, то речь здесь может идти, во-первых, лишь о чисто рыночной экономике, основанной преимущественно на частной собственности, либо о смешанной, но со значительной долей государственной собственности. Однако этого в Конституции нет. Во-вторых, практика темповой приватизации, принудительной фермеризации страны, а по существу разграбление государственной, колхозной собственности, убедительно продемонстрировала цену их продекларированного многообразия и равенства.
Во многом такая ситуация была предопределена туманностью конституционной формулировки равенства и одинаковой защиты частной и государственной собственности. В большинстве стран западной Европы правовое положение государственной собственности определено достаточно четко. Так, Конституция Норвегии 1905 г. зафиксировала: «Если благосостояние Государства требует передачи движимой и недвижимой собственности лица в публичное пользование, ему гарантируется компенсация со стороны казначейства»26.
Конституция Испании 1978 г. более категорична, устанавливая, что «все виды богатства страны в своих различных сферах, независимо от собственника, служат общим интересам»27. Не менее конкретна и Конституция Франции: «Всякое имущество, всякое предприятие, эксплуатация которого имеет или приобретает черты национальной общественной службы или фактической монополии -должно стать коллективным»28. Одним словом, во всех этих Конституциях приоритетна частная собственность, а госсобственность защищается через общий интерес. Отсюда следует, что и в Конституции РФ следовало бы закрепить норму, согласно которой государственная, муниципальная и иные формы собственности признаются постольку, поскольку они выражают множество частных интересов и жизненно необходимы для государства и общества в целом, а потому пользуются той же степенью защиты, что и частная собственность.
В практическом же плане авторам реформ следовало предусмотреть ряд мер по особой защите прав частной собственности, вплоть до принятия «драконовских» законов, чем в последующем удалось бы предотвратить рейдерство и легковесность к институту частной собственности, которая была если не инородным, то неопознанным телом в ментальности наших сограждан. Не меньшая путаница в теории и практике правоприменения была связана
20 Конституция Норвегии. 18 ноября 1905 г. С поправками от 23 июля 1995.
27 Конституция Испании. 6 декабря 1978.
28 Конституция Франции. 27 октября 1946.
и с отсутствием в Конституции РФ четкого закрепления экономической системы. Речь идет об отсутствующей в ней нормы, закрепляющей рыночную экономику. Правда, уже цитировавшийся В.Д. Мазаев умудрился это в ней разглядеть. Так, он пишет: «В Конституции РФ достаточно четко установлена разновидность модели рыночной экономики, причем с ярко выраженными либеральными чертами»29 . ‘
Как и с частной собственностью, ему приходится опять «выуживать» аргументацию для этой сентенции из отдельных статей Конституции и, прежде всего, из комплекса статей главы второй, определяющей права и свободы человека и гражданина.
С похожей ситуацией в своей практике столкнулся и Конституционный суд Германии, где в послевоенной Конституции страны также был «упущен» вопрос о рыночности экономики. Но в ФРГ это было результатом политического компромисса, явившегося следствием усиления антирыночных настроений в обществе после победы СССР в войне.
Однако правые силы ФРГ всячески «пробивали» принцип рыночности экономики в неконституционные законодательные акты. Например, в знаменитый «Совет мудрецов» могли попасть лишь лица со взглядами в рамках «системы рыночного хозяйства». Конституционный суд Германии, возражая против попыток некоторых людей делать какие-то выводы через содержательный анализ отдельных статей Конституции, в одном из своих заключений записал, что это неверно не только в методическом плане, но и по факту, ибо «из отдельных норм о правах человека нельзя путем комплексного анализа вывести концепцию определенного экономического строя »>3 .
Поэтому В.Д. Мазаев, на наш взгляд, заблуждается, ибо принципы рынка и само правовое закрепление рыночности экономики - совершенно разные вещи. Но дело не только в этом. В России де факто в результате многих факторов, но в том числе и исходящих из неопределенности отдельных статей Конституции, сложилась монопольная и регулируемая экономика. С какой легкостью В.Д. Мазаев «выудил» из Конституции РФ, что она рыночная, с такой же легкостью он вывел из анализа тех же норм совершенно противоположный постулат: «В нормах Конституции РФ можно выявить основные направления государственного участия в регулировании рыночной экономики»3'.
Здесь мы имеем возможность наблюдать пример, когда отдельные ученые-юристы не только противоречат друг другу, но и порой сами себе. В результате всего вышеизложенного негатив приобрел кумулятивный эффект. Россия из кризиса 90-х г.г. неизбежно в новом тысячелетии сползла к системному кризису, который в значительной мере затронул и политологию, наиболее яркие представители которой разделились на два противоположных лагеря: либералов и государственников.
Первые настаивают на уходе государства из экономики, а вторые, наоборот, на усиление его регулирующего воздействия. На самом деле, на наш взгляд, правы и не правы и те и другие. Либеральная часть науки оправданно выступает за минимальное государство, совершенно не учитывая при этом, что рынок и демократию еще предстоит построить. По факту возник монополистический капитализм, который приводит лишь к деградации и загниванию всего производственного и научного потенциала. С другой стороны, правы государственники, выступающие за активную роль государства в трансформационных процессах, но не правы, настаивая на перманентности этой активности. Нужно регулировать процесс создания рынка, а когда он будет создан, нужно оставить его в покое. Хотя в России, очевидно, из-за ряда объективных факторов роль государства еще долгое время будет весьма существенна.
На переходном этапе государство - не лишний субъект трансформации и уж тем более не регулятор, а фактор, компенсирующий неразвитость рынка, более того орган, призванный его создать и институционально обустроить. Российскими реформаторами, на наш взгляд, были совершены две принципиальные ошибки (что отразилось в практике законодательства). Во-первых, не была четко определена роль государства в экономике, точнее оно было лишено экономической функции, которая в переходный период должна была быть сохранена за государством в полном объеме.
В частности, в 90-х г.г. вопреки логике, роль государства была сведена к минимуму. В 2000- х г.г. этот процесс был завершен Административной реформой, вошедшей в историю как выстраивание «вертикали власти», которая, с одной стороны, имела положительное значение в плане укрепления государства как института власти, пошатнувшегося в результате политики децентрализации 90-х г., а с другой, отрицательное - полномасштабная либерализация экономики и минимизации государства без сформировавшихся институтов.
Так, постановлением Правительства РФ от 19.01.2005 г. «О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» функции министерств были сведены к следующим минимальным задачам: выработке и проведении государственной политики и осуществления нормативного правового регулирования в установленной сфере деятельности, координации и контроле и т.п.
Такое примитивное понимание проблемы привело к потере управляемости объектов управления. Власти пытались компенсировать этот недостаток путем усиления административного вмешательства и расширения прямого государственного участия в экономике. Но это оказалось малоэффективным, загоняя проблему вглубь. В обществе обострились глубинные противоречия, дополнившие экономический кризис политическим.
Во-вторых, полная потеря управляемости экономики, перевод ее в режим ручного управления привели к ее монополизации и тотальной коррупции. Но главное, к неэффективности госуправления. Причем монополии, навязывая обществу и конкурентам собственные интересы, грубо игнорируют их действительные возможности и потребности. Олигополисты же, захватив жизненно важные сегменты экономики, контролируют договорной уровень цен и продаж, выстраивают паразитическую цепочку из им же принадлежащих посреднических фирм, не допуская при этом на рынок возможных конкурентов. Отсюда на монопольном рынке России нет конкурентной цены, а есть неценовая конкуренция между «высокими договаривающимися сторонами». При этом монополии пронизывают экономику и по вертикали, и по горизонтали, затрагивая не только производственную, банковскую сферы, но и оптовую, и розничную торговлю, где видимое многообразие торговых фирм, брендов искусно скрывает истинное небольшое количество продавцов. Ими же до совершенства доведены и методы недобросовестной конкуренции. При такой «экономике» ни о каком эффективном распределении ресурсов, действительно присущих рыночной экономике, всерьез говорить не приходится.
В совокупности весь этот негатив есть ни что иное как квазирынок. Уход государства из такого «рынка», призыв ультралибералов: «Не мешать», -на этом фоне выглядят более чем странным. Имитация рыночных отношений в той или иной степени коснулась практически всех сфер экономической деятельности. Антирыночная среда породила паразитический бизнес, коррупцию и мошенничество, пышным цветом распустившихся на дряхлеющем теле российской экономики. Можно теоретически согласиться с либералами, что свобода и конкуренция ВТО разрешат все эти проблемы.
Но реальная практика более чем убедительно доказала, что сама по себе либерализация без соответствующих мер подготовки и четкого плана не порождает рынок, а приводит лишь к разрушению даже имеющего потенциала. Схематично соотношение государства и экономики переходного пе- риода должно принципиально отличаться от развивающихся, а тем более развитых рынков.
Если в последнем однозвенная схема, то в развивающихся - она должна быть двухзвенной. Двухуровневая схема экономики переходного типа на первый взгляд выглядит необычно, но ничего нового в этом нет. К примеру, такая «эшелонирован-ность» была характерна для Китая, где его особенностью являлось «... параллельное сосуществование директивно - плановых и рыночных механизмов при общем курсе на постепенное и естественное сокращение директивного планирования в пользу рыночного регулирования»32. Однако, это хотя и полезный, но далекий опыт. В погоне за всем заграничным мы часто забываем о своей собственной истории, которая в значительной мере сформировала российскую ментальность. Речь идет о царском периоде, где государство в экономике играло существенную роль, и о НЭПе, относительно коротком, но ярком эпизоде в нашей истории. Наши реформаторы «вместе с водой выплеснули и ребенка», не учтя отечественные уникальные разработки 20-30 г.г., особенно касающиеся вопросов сочетания плана и рынка.
Это относится не только к вопросам сочетания разнообразных форм собственности, регулирования и стихийных начал в экономике, но и первоначальных ходов, которые там и у нас начались с деревни, где должен был сформироваться инвестиционный потенциал для возрождения городской промышленности. Неудачи, постигшие российских реформаторов по созданию нормальной рыночной экономики, вновь актуализировали проблему необходимости, как и в 20-30-е г.г., сочетания плана и рынка. Об этом первым заговорил Б.Н. Ельцин в Послании 1999 г. В поддержку такого сочетания высказываются авторитетные отечественные экономисты, которые, анализируя положительные результаты НЭПа, отмечают, что: «План и рынок - взаимодополняющие регуляторы33.
В современной интерпретации эта позиция выглядит в представлении ряда ученых как смешанная экономика, включающая не только рыночные методы регулирования, но и элементы планирования. Это, на наш взгляд не совсем верно: во-первых, искажает первоначальное понимание смешанной экономики, а во-вторых, есть совершенно неоправданная попытка соединить несоединимое.
Эти авторы совершенно правы, если брать во внимание задачу достройки рыночной экономики, которая на Западе в течение столетий стихийно бы-
-
32 Аблаев И. Указ.соч. С.138. Так же подробнее см.: Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо: Стратегия развития и экономическая реформа. М., 2001.
-
33 Государство и экономика. Факторы роста. М., 2003. С.29.
ла сформирована, но у России такой временной возможности просто нет.
Следовательно, только через госрегулирование и планирование можно выстроить институциональную инфраструктуру саморегулирующейся экономики. Конечно же, как показал опыт развитых стран, в принципе план и рынок антиподы, и если план и можно использовать, то, как отмечал Фридрих фон Хайек, «планирование и конкуренцию можно совместить только при одном условии: если первое будет способствовать конкуренции, а не действовать против нее»/4. Мировой экономический кризис 2008-2009 г.г. вновь обострил проблему соотношения государства и экономики.
В научных и политических кругах, с одной стороны, усилилась критика, доходящая до неприятия экономического либерализма, как теории, полностью обанкротившейся в условиях России, а с другой, проявился интерес к посткейнсианским рецептам государственного регулирования. Ортодоксальные сторонники классического либерализма в России убеждены, что в полном смысле либерализма в стране не было, ибо реформы были свернуты на полпути, оставив недореформированной политическую систему и экономическую сферу. По их мнению, в стране сформировался тоталитарный режим с практикой государственного вмешательства во все сферы жизни общества с господством коррумпированного чиновничества.
На самом деле, конечно же, это внешняя, видимая часть айсберга, не отражающая глубинные внутренние противоречия и исходящая, прежде всего, не из «порочности» либеральной теории как таковой, а из ошибок и просчетов тех же либералов, допущенных к «телу власти» на первоначальном этапе реформ. Все действия властей в постельцин-ский период есть не что иное, как стремление исправить фактически сложившуюся ситуацию квазилиберализма. Сторонники же кейнсианских учений, критикуя либералов, совершенно обоснованно исходят из постулата о применимости неокейнсианства в условиях переходного периода.
В России кризис обнажил сырьевую ориентацию нашей экономики и сорвал пелену псевдонаучных изысканий ряда авторов, безосновательно доказывавших эффективность российского частного предпринимательства, роста ВВП не за счет нефти и газа, а за счет внутренних факторов. По этому вопросу рядом авторов в отечественной литературе высказано много спорных, а порой и сомнительных рекомендаций. Один из таких продемонстрировал, на наш взгляд, не только непонимание сути проблемы, но и связал неудачи экономических реформ с наличием в российской экономике избыточной гос-
34 Хайек Ф.А. Дорога к рабству // Новый мир. 1991. № 7. С.32.
собственности35. Он пишет, что: «низкая эффективность государственных предприятий в целом подтверждается не только экономической историей СССР, но и сравнительными исследованиями ситуации в постсоветской России»36.
Напомним господину К.Яновскому, во-первых, касаясь экономической истории СССР, что нэпмановская Россия практически восстановила довоенный уровень производства за 5-6 лет. Мы уже не говорим об успехах в послевоенном восстановлении страны, создании ядерного щита или покорении космоса.
А если взять практику государственного сектора в международном масштабе, например, опыт Норвегии, где нефтяная отрасль с момента своего разворачивания и последующей эксплуатации целиком принадлежит государству, то приведенная цитата автора вообще теряет всякий смысл.
Но если и этого недостаточно, то можно привести цитату другого автора, в которой он пишет, что «...руководящие органы ЕС придерживаются мнения, что некоторые жизненно необходимые функции лучше обеспечиваются государственными предприятиями, нежели частным бизнесом»37.
Во-вторых, К.Яновский старательно выводит следующую бессодержательную посылку: «Вопросу, почему государственная фирма в принципе не может быть эффективной, посвящена обширная научная литература»38. На наш взгляд, эту обширную литературу целесообразнее было бы посвятить истинным проблемам российской экономики.
Ибо указанные авторы ломятся в открытую дверь, т.к. совершенно ясно, что рыночная экономика - это экономика частных фирм, а государство, если и участвует в бизнесе, то не с целью конкурирования с ними, а с целью придать им большую ди-намику.К этому добавим и мнение американского экономиста Дж.Ю. Стиглица, который писал, что Девиз и Кристенен, сравнивая частные и государственные железные дороги Канады, пришли к выводу, что «любая тенденция неэффективности, порожденная государственной собственностью, преодолевается выгодами конкуренции.
То, в какой степени конкуренция может распространяться в государственном секторе, остается предметом продолжающихся споров»39. В-третьих,
-
35 См.: Яновский К. Размены государственного сектора экономики // Вопросы экономики. 2004. № 9. С.25.
-
30 Там же.
-
37 Лузан С. Регулирование и управление предприятиями с государственным участием: международный аспект // Вопросы экономики. 2004. № 9. С.36.
-
38 Яновский К. Указ.соч. С.25.
-
39 Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. - М.: Издательство МГУ, 1997. С.203.
указанный автор обосновывает и следующий, на наш взгляд, в целом сомнительный вывод.
Он пишет, что нет никаких государственных интересов, есть лишь интересы конкретных государственных служащих40. Здесь виден отголосок идей 90-х г.г. когда ультралибералы вытравляли из общественного сознания любую мысль о наличии у государства какого - либо интереса, кроме эгоизма его отдельных служащих.
На самом деле понятие государственного служащего - это из области административного права, а если названный автор имеет в виду управленческий персонал на государственных предприятиях, то они к системе государственной службы никакого отношения не имеют и их статус определяется договором найма, контракта, как и с обычным менеджером частной фирмы.
Менеджеров государственного предприятия и частной фирмы объединяет контракт, а различаются они по интересу, который в первом случае исходит от государства, а во втором - от частника. Отрицать же у государства наличие собственного интереса не только неверно, но и опасно.
Ибо государство, действуя во всеобщих интересах, не должно служить интересам отдельных юридических или физических лиц. Это и есть коррупция, а философия К. Яновского, выходит, её теоретическая база.
40 Яновский К. Указ.соч. С.30.
Государственные служащие не только не могут, но и не имеют права иметь личный интерес. Тому подтверждением является и справедливая позиция законодателя, который в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. закрепил, что не личные интересы, а «соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяет смысл и содержание профессиональной деятельности орга-на»41. Нельзя забывать и того, что если следовать логике К. Яновского, то и у служащих капиталистической «фабрики» есть лишь личные интересы, и нет интересов фирмы. Но и это абсурд, ибо еще классик науки управления А. Файоль в своих 14 известных принципах менеджмента отмечал необходимость подчинения частных интересов конкретных служащих интересам организации, интересов отдельных граждан интересам государства42.
И последнее. Саму идею поставить бизнесменов, рискующих своим личным капиталом, в один ряд с государственными служащими, распоряжающихся государственными средствами, вряд ли одобрили не только предприниматели, но и классик А. Смит, обосновавший доктрину личного интереса «экономического человека», а не государственного служащего.
41 Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст.3215.
42 См.: Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление-это наука и искусство. М., 1992. С.20-41.
Список литературы Трансформационное общество и роль государства в формировании институциональных основ рыночной экономики
- Аблаев И. Участие государства в экономике. -М.: Наука, 2004.
- Ананьин О., Хаиткулов Р., Шестаков Д. Вашингтонский консенсус: Пейзаж после битв.Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 12.
- EDN: NXUMSD
- Валеев Р.М. Социальные права и их реализация в современной России. Казань, 2007.
- EDN: QQPHMN
- Государство и экономика: Факторы роста. -М.: Наука, 2003.
- Гутников О.В. Состояние и перспективы развития корпоративного законодательства в Российской Федерации.Журнал российского права. 2007. №2.
- EDN: OOAAOR